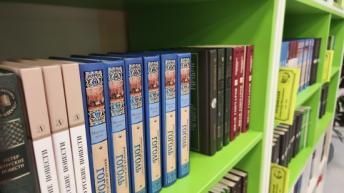Он приносит из закромов мастерской большую папку со старыми работами разных лет – своими и чужими, вытряхивает их на пол, потом берет по одной, показывает и комментирует. Так ему удобнее. Наткнувшись на рисунок, сделанный поверх фотографии, решает взглянуть, что там, под слоем краски, – и тут же смывает ее водой, обнажая черно-белый снимок. Он недоволен собой, изредка доволен другими и восхищен "Сикстинской мадонной" Рафаэля, с которой как раз пишет реплику (не путать с копией)... Художник, фотограф, скульптор, косторез и разносторонний человек Сергей Шаповал, к которому пришли члены тюменского интеллектуального клуба "Артизан" – друзья, хорошие знакомые и просто любопытствующие.
Им интересно все – искусство, литература, музыка, театр, философия, психология, путешествия, хорошая кухня, да любой аспект жизни, если он осмыслен творчески. Один из проектов клуба носит название "В мастерской художника". Нынче летом "интеллектуалы" побывали у Владимира Глухова и Юрия Бычкова, а теперь пришли навестить Шаповала. Его мастерская на шестом этаже, под самой крышей, представляет собой колоритное сочетание хаоса и порядка. Среди гостей по-хозяйски снует кошка Рыся – обнюхивает, взбирается на колени, ложится на туфли, дает погладить себе спину и почесать шейку, позирует перед объективами фотокамер. А Шаповал начинает говорить...
Он не любит пафоса, не верит, будто художник – "проводник чего-то великого из космоса". И даже в любимых классиках – Рафаэле, Боттичелли – видит прежде всего человеческое начало: "Они и бились, и дрались, и жены у них умирали". Про жен – это о Боттичелли. Но творчество дает человеку возможность подняться над обыденностью. О Рафаэле: "В этой картине он явил, пусть по заказу, абсолют духа. То, к чему стремится человек, художник. Он вынужден жить, как живет, а в работах своих несет то самое светлое, емкое, чем у него не получается жить. Когда я делаю свои маленькие поделки, я в них заключаю ту самую энергию..."
Не каждому дано быть Рафаэлем, но принцип "девятого вала" справедлив для всех. Спады и подъемы, удачи и разочарования в творческом процессе неизбежны. Шаповал еще студентом подметил в этих колебаниях математические закономерности. Когда он писал энное количество этюдов, то лучшие получались к концу первой десятки, последние тоже выходили неплохо. Насколько – судил, конечно, педагог. Одна по-настоящему удачная работа – четверка, две – пятерка. Впрочем, студент Шаповал мог лишь догадываться о том, по каким критериям его оценивают, а художник Шаповал стал применять эти критерии к коллегам-профессионалам. Ищет он, правда, не соответствия требованиям учебной программы, а эмоционального отклика. Если на чьей-то выставке его тронет хоть одна работа – уже хорошо, две – отлично, больше двух – совсем замечательно.
Сам Шаповал знает, какая его вещь удалась, сыграла, а какая "не играет и не поет"... И знает, что надо стараться от души. Подобно самодеятельным художникам, которые не владеют ремеслом, зато рисуют с упоением: "Если он делает "Джоконду", то делает свою "Джоконду". Она у него кривая, страшная, но – гармоничная. В своей форме, именно вот такая – кривая. Потому что – "от души". Даром видеть, внутренним стремлением к идеалу может обладать не только художник, но и зритель, который понимает искусство на уровне "нравится – не нравится": "У каждого свой космический камертон восприятия красоты. И если человек видит диссонанс, то есть его душа тонко чувствует, он говорит: "Мне не нравится". – "Почему?" – "Не знаю". А потому что он видит: вот это красиво, а это некрасиво".
Жизнь бросала мастера в разные концы страны. Он родился и учился на Дальнем Востоке, снова учился – в Москве. Врезал замок в дверь ленинской комнаты и устроил там мастерскую. Желтые бананы на оранжевом стуле написаны именно в той мастерской... Он прошел бурную школу Арбата: "Я занимался социологическим исследованием". Выставил, например, крупные листы, чтобы было видно издалека. На одном – расческа, на другом – таз с золотой рыбкой, на третьем – швейная машинка. Реакция была разной. От "О, прикольно!" до "Да я сам так могу!" Выслушав эту сентенцию несколько раз подряд, Шаповал повесил рядом бумажку: "Все это вы можете нарисовать сами, если в конце Арбата зайдете в канцтовары, купите краску, бумагу, приедете домой и найдете время для рисования".
Сегодня он за многое себя корит. За то, что не занялся, как следует, портретом – не писал близких... Вместо этого увлекся фотографией, надеясь с ее помощью "выявить что-то такое". Сейчас, 20 лет спустя, пришел к выводу, что и в фотографии надо научиться чутко видеть и понимать, что ты говоришь. Как в живописи. "Если ты получил диплом, ты еще не художник. Нужно сделать себя художником, стать им. А для этого – понять, что ты можешь явить людям..." Он экспериментировал с цветом и фактурами, а теперь считает: "Если бы я тогда обратился к своей душе, а не к формальным поискам собственного почерка, то было бы лучше. Меня спасло декоративно-прикладное искусство. Я резал по дереву еще в армии. После армии поступил в хабаровский институт, сделал пару вещей. А потом ушел искать свой почерк... И когда уже здесь, в Тюмени, в 1991 году я начал заниматься декоративно-прикладным искусством, оно меня спасло. Дело в том, что в маленькой вещи ты не будешь размазываться мыслями по холсту".
Есть у Шаповала полушутливая классификация произведений по размеру: "Я понял, что искусство должно вешаться на уши, на шею, надеваться на палец, помещаться в руке, надеваться на руку, вмещаться в сумочку, в портфельчик, в дипломат, в крайнем случае – в большой чемодан. ("В пломбированный вагон", – подсказал кто-то). А вот то, что вмещается в пломбированный вагон, это уже хал... В смысле, спецзаказ. Творчества там нет".
Художнику кажется, он наперед знает, что будет дальше. Возможно, потому снова и снова возвращается к образу покоя. В ожидании чего? Вдруг – чего-то нового, невероятного, что придет и накроет... Как девятый вал.