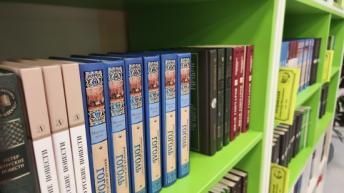После неожиданной и странной смерти писателя Ивана Ермакова (1974) осталось немало слухов, предположений и легенд. Не буду касаться бытовых, унижающих гордое достоинство человека, открыто величавшего себя князем сибирским. В романе «Сухие росы» я попытался уточнить, почему, например, не граф, а именно князь? И писатель отвечает своим фронтовым товарищам:
– Я не в сословия и гербовые родовые перечни метил, это мне трын-трава, мне сам титул хозяина нашей земли сохранить надо. Я же не сказал граф или барон, это вовсе мусор для русского человека, а князья – они не просто княжили, они земли приумножали, людей сохраняли, дружинами командовали. Можно так сказать, что по моему скромному офицерскому званию вполне мог на княжеский уровень потянуть, как смотришь, Григорий?
Думаю, вполне убедительно. Но речь о разговорах, связанных с творчеством, и прежде всего о «Храме на крови». Сорок лет нет с нами Ермакова, но писательская и читательская общественность чтит его память, издает и читает его сказы. А о «Храме на крови» только говорят.
В дни сорокалетия его ухода я напросился в гости к вдове писателя Антонине Пантелеевне Ермаковой, которая все так же живет в скромной квартирке над бывшим магазином «Родничок». Говорили о Казанке, нашей общей родине, о том далеком времени, о работе Ивана Михайловича. Конечно, речь заходит о «Храме».
Что мы знаем о повести или романе «Храм на крови»?
Знаем, что после поездки по местам боев на Волховском и Ленинградском фронтах Ермаков вернулся сильно изменившимся. Жена Антонина Пантелеевна вспоминает, что он мало шутил, мало говорил, ни с кем не общался. Закроет дверь в свой кабинет – и тишина. Она иногда входила. Иван Михайлович лежал на кровати лицом вверх, подложив руки под голову. Спрашивала, может, что-то болит. Он успокаивал: все нормально, я должен подумать.
– Раз дал обет сделать эту книжку последней – не спеши, займись другой темой.
Но писать он продолжал. В Тюмени было какое-то писательское мероприятие, из «Сибирских огней» приехал товарищ, к сожалению, не помню его фамилию. (Это был, скорее всего, Анатолий Васильевич Никульков, редактор. – Н.О.). Он остановился у нас, тут же вечерами собирались писатели, Шерман жил в нашем доме на пятом этаже, он приходил. И Иван Михайлович рассказывал содержание «Храма на крови». Когда его не стало, позвонил этот товарищ из Новосибирска и просил прислать рукопись книги. Я говорю, что Иван Михайлович не написал такую книгу, товарищ чуть ли не возмущается:
– Как не написал, когда у вас в доме он нам всю ее пересказал!
Конечно, не будешь новому человеку объяснять, что такая манера была у Ермакова, он на слушателях обкатывал свои будущие книги. Но все-таки ту часть написанного я ему выслала, но это не было напечатано, хотя в газете «Тюменская правда» большой отрывок был опубликован.
Очень многие современники утверждали, что чуть ли не все содержание будущей книги Ермаков рассказывал на встречах. Какие-то детали этого повествования мне передавал Борис Галязимов во время наших частых встреч в газете «Ямская слобода», но и он признавался, что рукопись в руках не держал. Мы уже говорили о новосибирском писателе, который прямо-таки требовал от вдовы после смерти Ивана Михайловича рукопись для печати, говорили даже, что публикация была проанонсирована журналом «Сибирские огни». Антонина Пантелеевна говорит о небольшом отрывке, который она с дочерью Светланой отправляли в Новосибирск, но это было совсем не то, что там ждали. Я связался с редакцией журнала безо всякой надежды и оказался прав: сменился весь коллектив, Ермакова никто не помнит и не знает, рукопись от 1974 года найти невозможно, столько лет ничто не сохраняется.
Антонина Пантелеевна вспоминает, что вскоре после ухода Ивана Михайловича большой отрывок опубликовала «Тюменская правда». Я пролистал подшивки газеты в областной научной библиотеке за 1974, 1975 и 1976 годы. «Храма на крови» нет. Но 19 октября 1974 года, то есть через три месяца после похорон писателя, газета печатает очерк «И был на селе праздник», над которым писатель работал в последние дни. Вполне возможно, что вдова помнит именно эту публикацию, воспринимая ее как часть «Храма на крови».
Почти весь архив писателя семья передала областному краеведческому музею. После нашей встречи Антонина Пантелеевна пошла в музей, ее доброжелательно встретили, перебрали все рукописи, но никаких следов «Храма». Дома обнаружилась папка с несколькими листочками, где в заголовках встречается желанное словосочетание. Все, что удалось собрать, я предлагаю читателям. Честное слово, тут есть на что посмотреть.
Храм на крови
Эта страничка напечатана на машинке и совсем без правки. Имя автора в верхнем правом углу и заголовок заглавными буквами выдают первую страницу будущей книги. Но мы располагаем только одной страницей...
Хоронили Тасмухаметова. Нашли его голову.
Тогда, через год жесткой обороны, мне подумалось, что деревьев на нашей высотке осталось куда меньше, чем солдат, похороненных под корнями и между корнями тех самых и некогда бывших деревьев.
Я был взводным на этой высотке.
Иногда мне становится стыдно, живому, что я не сумею без списка, по памяти, сделать своему взводу посмертную пофамильную перекличку.
Неповторимы смерти, неповторимы деревья, видевшие и принявшие в корни свои солдатскую смерть на удельной своей высоте. Каждое из них было братски похожим одно на другое и каждое в то же время было единственным в мире в своей непохожести. Природа неутомима в поисках единичности, и если однажды поделит она свои океаны на капли, то сотворит это так, чтобы в квадриллионах их не было двух одинаковых. Что уж тут говорить о деревьях... Может быть, в соковом и зелёном их таинстве есть у каждого индивидуума свой тембр и своя окраска голоса, и даже – свои имена. Ведь для природы, в поисках единичности, не составляет труда явить святцы, в которых бы каждому дереву было вписано его, несозвучное с прочими, имя. Так думается мне потому, что остались на этой
высотке мои поименные деревья,
А что я, что я перед вечным творцом – перед вечным глаголом природы? Но, однако же, есть и у меня на земле, на той самой высотке: Дерево – Иван Петрович Купцов. Дерево – Тенгляшев. Дерево – Фарахуддинов.
Это похоже на дневниковую запись, зарубка на память...
«В работе над очередной книгой... меня преследуют давние «позывные», которые, вероятно, будут тревожить и волновать меня всю мою жизнь. Всюду по необъятной Отчизне разбросаны мои фронтовые друзья, и о каждом из них, почти о каждом, ибо друг – категория сердечная, избирательная, мог бы я рассказать немало веселого, грустного, героического...
Мне предстоит рассказать, как меняли на Волховском фронте Гитлера на портянки.
Как от батьки Бендеры добровольцем ушла коза в артиллерию.
Как мусульманин Тенгляшев, не употреблявший свинины, но верный присяге, во исполнение приказа Верховного Главнокомандующего «ни килограмма продуктов врагу», будучи окруженный фашистами, съел дневную взводную норму сала, и что из этого потом получилось.
Как военфельдшер Вася Анисимов, перевязывавший мои раны 16 августа 1943 года, атеист и безбожник, уговорил православного батюшку в день 9 мая 1945 года отслужить благодарственный молебен во имя Победы, и даже подрядился заменить с этой целью прихворнувшего звонаря.
Многое надо мне рассказать о святом, беззаветном, пройдисветном, лихом, удалом, лукавом и небезгрешном русском солдате, стоявшем на гребне истории и творившем ее. 1970 г.».
Этот фрагмент напечатан на машинке. Без заголовка. Тоже очень похоже на наброски к серьезной вещи.
«Страшны солдатские сны...
Тот немец...
Застрелил ты его или нет?
После получасовой артподготовки, кровенясь и дичая в плотной завесе заградительного огня, взвод, полувзводом всего, просквозил огонь и ворвался во вражеские окопы.
Теперь бей все живое – земное, уцелевшее, движущееся, копошавшееся, целящееся, оштычившееся. Жизнь уже даже не копейка: полсекунды и жизнь... Каждым мускульцем, слухом и нюхом и шестым своим чувством ты нацелен убивать, упредить, обыграть свою смерть, и оружие твое злое, умное, зрячее, ежемгновенно и преданно служит тебе.
Тот немец...
Застрелил ты его или нет?
В тот момент, когда ты по его обреченную душу довернул ППШ автомат, ты увидел вдруг на его живом лице свесившиеся на уровне крылышек носа огромные кругляши. Ты застыл, недвижим, обеззлобленный.
Немец полз по дну окопа. Его пальцы, ладони были облеплены мокрым окопным песком, приближаясь к тебе и не видя тебя, немец приподнял вдруг голову и, призывая «Main Gott, о, main Gott!», начал вправлять искореженными песчаными пальцами в сгаснувшие орбиты выдавленные артподготовкой бело-сине-кровавые льдинки остынувших глаз.
– Не надо с песком! – крикнул ты или хотел только крикнуть.
И не помнишь: выстрелил ты или хотел только выстрелить.
Содрогнувшись от живого и как бы осмысленного сияния зрачка в рукоприложенном, суверенном от мозга глазу, был отшвырнут ты невменяемо-жуткою, леденящею силой видения войны.
Немцы накрыли свою первую линию по готовым таблицам пристрелянным артиллерийским огнем.
В той атаке ты был дважды контужен.
Видение сделалось привидением.
В бодрствовании оно где-то зачаивалось, теплилось, существовало инкогнито, зато по ночам, склоняясь к его изголовью, оно рвало дремоту, сны, и солдат, окатываясь пронзительным потом, с воплем ужаса подхватывался с постели, ходил, трепетал.
Снилось: немец тот лез обниматься, свисающие, колеблющиеся яблоки глаз касались своей обнаженной округлостью, вонзали в щеки и шею льдисто-искристый колющий холодок: «Main Gott, о, main Gott!».
Еженощный гость...
Сосед по палате тоже ночами во снах одичало кричал, вскакивал и подолгу потом примерялся к действительности.
Этому снились две озверевшие крысы.
Из разбитых и обезлюдевших фронтовых деревень продвигалась оголодавшая дичь вдоль окопов противников, нарыскивая чуткий хлебушкин запах, трупный солод людей и лошадей.
Его лошадь, запряженная в полевую походную кухню, в солдатскую кашу, наполоховшись близких внезапных разрывов, понесла, понесла, понесла... Заступила копытом в минное поле. Даванула взрыватель у настороженной мины.
Повар-раздатчик потерял после взрыва сознание.
С трудом и не сразу-то возвратясь к бытию, опознал он в двух живностях, копошавшихся на его онемевшей груди, этих самых. Седые канальи, упираясь хвостами, привстав на задки, умывались. Смывали кургузыми лапками с мордочек кровь, его кровь, обли-зывали их розовыми ленивенькими языками. Тогда-то и вскрикнул и подхватился в первый раз.
У лошади были обгрызены, обезображены губы. Белела зубами и жутко нехорошо улыбалась.
И теперь по ночам прибегали они, серые, безобразные твари аж с Волховского болотного фронта, усаживались на инвалидскую грудь и опять, как тогда, умывались, повизгивали.
Да, страшны солдатские сны...».
Видимо, эта мысль появилась после размышлений много повидавшего воина, в том числе и в госпиталях.
«Пофамильный памятник воинов, умерших в Тюмени от ран».
Храм на крови (наброски)
Взводный! Иван Взводный. Помнишь ли ты своих солдат? Помяни их, братьев окопных своих, помяни. Выстрой их на поверку, на утреннюю перекличку. Назови поименно.
Алешин – из Курска.
Тасмухаметов из Казахстана.
Спиридонов из Омской.
Корольков из Липецка.
Ишмурзин из Башкирии.
Гарифуллин, Момоджанов, Тенгляшев...
И ничтожно мала душа твоя, ибо довольно наперсточка пороха, сгоревшего во вражьем патроне, довольно пронзительной пульки, чтобы сжечь ее чуть большим мгновением, потребным для сгорания того пороха.
Храм-на-крови
Эта страничка, единственная и не оконченная, тоже озаглавлена «Храм-на- крови», именно так, через дефиски. Возможно, писатель время от времени возвращался к главной своей задумке и делал наброски, которые тут же беспощадно правил. Я вычеркнул слова, которые написал и зачеркнул автор. Три раза принимается он за этот абзац, но так и не заканчивает его, сохранив все варианты, в каждом из которых есть несколько неожиданных слов и только его образов.
«Есть у подзнаменного седого солдатства, присяги сороковых, свое тайное законспирированное неразглашенное движение. Движутся некогда подзнаменные списочные тысячи тысяч полков—стрелковых, движутся, выстроенных артиллерийских и прочих полков, встроенных ныне вместивших ныне ушедших в отставку полков, расквартированных пыие выстроенных на перекличку Истории в бронированных несгораемых – буде час роковой, буде выкликнет Матерь История полковника нашего и писаря, вашего повара – на бронированных несгораемых полках военных архивов
Есть у сивого да луневого бывшебитого перемеченного и переклейменного шрамовитого братства-солдатства, присяги—недотянутой пятилетки присяги сороковых присягавшего что святым да по чертовой шее выполняло
Есть у сивого да луневого бывшебитого братства-солдатства присяги сороковых, перемеченного да переклейменного каленым железом из преисподних плавилен»
Нигде не поставлена точка, этим строчкам еще предстояло пройти горнило сурового ермаковского отбора.
Поименные дерева
Мы хоронили Тасмухаметова.
Тогда мне подумалось, что деревьев на нашей высотке росло куда меньше, чем солдат, уже похороненных под корнями и между корнями тех самых деревьев.
Я был взводным на этой высотке.
Мне сейчас стыдно, живому, что не сумею без списка по памяти сделать своему взводу пофамильную перекличку.
Зато я помню деревья на нашей высотке.
Каждое из них не было похожим на другое, и каждое было единственным в мире, неповторимым.
Природа неутомима в поисках единичности, и, если когда-нибудь она поделит свои океаны на капли, она это сделает так, чтобы среди них не было двух одинаковых. Что уж тут говорить о деревьях. Может быть, у них в зеленом их таинстве есть свои голоса, свои собственные имена?
Мы не знаем, быть может, в зеленом их таинстве звучат свои голоса – у каждого дерева свой, быть может, у каждого дерева есть свои имена, ведь для природы в поисках единичности не составляет труда придумать каждому дереву имя.
Тогда они точно были похожи одно на другое, их роднил и равнял общий признак войны: это был лес, простоявший около года в жесткой обороне. Деревья слышали суровые горькие строки приказа «Ни шагу назад!» в предутренний час, когда ни одна хвоинка не уронится сонным птичьим крылом, тишиной зазвенели здесь русские топоры, и по склону, что должен стоять лицом на врага, был вырублен сектор обстрела. Сосны, каждая – не обнять стан солдату – пронзенные соками, затеплившие по весне на вершинах мягкие свечи, живые до острия игл, пред тем как упасть…
В начале нынешнего марта Антонина Пантелеевна позвонила:
– Я нашла напечатанный в газете отрывок «Храма на крови».
На другой день я был в Тюмени. Газета «Тюменский комсомолец», 9 мая 1979 года. Отрывок называется «Поименно с вами прощаюсь».
«Иван ЕРМАКОВ.
Поименно с вами прощаюсь...
Хоронили Тасмухаметова...
Тогда, через год жестокой обороны, мне подумалось, что деревьев на нашей высоте осталось куда много меньше, чем солдат, похороненных под корнями и между корнями тех самых и некогда бывших деревьев.
Я был взводным на этой высотке.
Иногда мне становится стыдно, живому, что я не сумею без списка, по памяти, сделать своему взводу посмертную пофамильную перекличку.
Неповторимы смерти, неповторимы деревья, видевшие и принявшие в корни свои солдатскую смерть на удельной своей высоте, Каждое из них было братски похожим одно на другое и каждое в то же время было единственным в мире в своей непохожести. Природа неутомима в поисках единичности, и если однажды поделит она свои океаны на капли, то сотворит это так, чтобы в квадриллионах их не было двух одинаковых. Что уж тут говорить о деревьях. Может быть, в соковом и зеленом их таинстве есть у каждого индивидуума свой тембр и окраска голоса, и даже свои имена. Ведь для природы в поисках единичности не составляет труда явить святцы, в которых бы каждому дереву было вписано его, не созвучное с прочими, имя. Так думается мне потому, что остались на этой высотке мои именные деревья. А что я, что я перед вечным творцом – перед вечным глаголом природы? Но однако же есть у меня на земле, на той самой высотке:
Дерево – Иван Петрович Купцов,
Дерево – Тенгляшев,
Дерево – Фарахуддинов,
Дерево – Сережка Володкин,
Дерево – Тасмухаметов.
Дерево... Я расскажу вам о каждом из них.
Той ночью, когда мы ступили на эту высоту, они пока были похожи одно на другое. Вместе с нами прослушали эти деревья суровые грозные строки приказа: «...Ни шагу назад».
В тишайший предутренний час, когда ни одна-то хвоинка сама по себе не сорвется к земле, не уронится шишечка сонненьким птичьим крылом, запели здесь беспощадные пилы, зазвенели армейские соловьи-топоры, и по склону, что должен проглянуть лицом на врага, был выпилен, вырублен сектор обстрела. И матери-сосны, которым бы только родить и родить, пронзенные соками, затеплившиеся мягким свечением рванувшихся к солнцу вершин, живые и напоенные силой до острийка игл, пред тем как упасть, взмолясь, пошептавшись в испуге, набирали тихонько, тихонько дрожащий разбег и, издав первый тягостный стон у корней, теряли свою вышину и с воплем ужаса разбивались зеленым виском о высотку-родительницу,
Год жестокой обороны.
Год бомбежек.
Год артиллерийских и минометных обстрелов. Прицельных, выверенных, сориентированных, методичных, внезапных.
Видел я, как уронились однажды без взрыва сразу три зеленых могучих ствола. Жутковато смотреть, когда, казалось бы, ни с того ни с сего, без грома, без молнии, одновременно почти рухнули три великана. Это шел рикошетом и бил деревам под сердца «подгулявший», невзорвавшийся крупный тяжелый снаряд.
Остальные обычно взрывались.
Только что в моей землянке озоровала певучая балалайка Артиллерийский наблюдатель – бахарь, певун, поплясун, виртуоз-балалаечник – засланный батареей в пехотный мой взвод, под дружные попрыски смеха разделывал матерными частушками Гитлера и иже с ним.
Поблизости от землянки прогремел взрыв, По содроганию земли, по осыпи песчаных проворненьких струй, ринувшихся со стен, определялось: сыграл-таки «поросенок» откормленный. Три наката такому – раз «хрюкнуть».
За первым взорвался второй, Третий... пятый, шестой. Окружили землянку.
Артиллерист вышел к брустверу, приложил бинокль к глазам: «Авось, засеку, откуда подкидывают».
Восьмой прямым попаданием ударил в ствол дерева на трехметровой его высоте. Они падали вместе – сосна и артиллерист. Левая рука его оказалась разрубленной по кости, по жилам, по мускулу и держалась теперь на клочке тонкой кожи. Остальные осколки разместились в затылке, в лопатках, в спине. Искрещенного запламеневшими индивидуальными пакетами, уложили его на шинель и понесли, было, ходом сообщения в тыл – медсанбат. Но через полсотни окопных шагов он уже не стонал. Сталь свое сделала. От частушки до смерти прошло семь минут.
Ночью зарыли его в воронке между рваных и обнаженных корней высоты. Хоронили мы всегда ночью, ползком засыпали убитого, лежа на животах. Днем – снайперы, ночью – слепой пулеметно-ружейный огонь. В ста двадцати метрах через болотце и речку еще высота. На ней немцы.
Падали в ротах солдаты, падали дерева. Когда нас, «оборонцев», одною июньской ночью сменяла с высот и болот полнокровная дивизия, в наших ротах едва ли осталась треть комплекта активных штыков. Идем в недалекий армейский тыл, а «полнокровная» начнет на заре наступать.
Заполняли обжитые наши окопы безмолвные серые ручейки. По тихой команде рассаживались отделения, взводы и роты. Со всяческой предосторожностью – из рукава, из-за пазухи, из-под прикрытия пилоток им разрешили курить. Маскировка до шепота.
Мой солдат – «батя Быков» звала его взводная молодежь – примостился на корточки возле солдата из полнокровной дивизии и, скорее, не шепотом – жестом попросил у него прикурить. Сошлись две пилотки лоб в лоб, взялись огоньком самокрутки. На секундную малость лица солдат высветило мало-малое заревце.
– Так! – почти басом сказал «батя Быков» солдату из полнокровной дивизии. – Так. Курить, значит, начал сынок?!
Тот испуганно сунул свою самокрутку в песок:
– Тятя?!
– Он самый. Думаешь, если война, то и отца на вас нет?
– Ба-лов-ство! Не достигчи совершеннолетнего возраста...
И вдруг всхлипнул:
– Вася! Сынок мой! Какими молитвами...
Колючая небрить отца впилась в юный пушок, в румяную сердцевину губ сына:
– Кури, Вася. Кури, если так! До победы и после победы – кури! Посмотрим, кострячь твою мать, кто кого перекурит, – погрозил он кривым козловатым своим кулаком знакомой фашистской высоте.
Светила луна.
Я прощался с «моей» высотой. На ней не осталось ни одного живого истинно-деревянного дерева. Даже редкие единичные, сохранившие прежнюю видимость ствола, кроны наверняка были сплошь нашпигованы пулями, бризантной картечью, осколками. Клыковато торчали на склонах и гребне ее, словно зубы неведомого чудовища, порубленные, иссеченные, обезглавленные стволы. Пни войны. Поименно с вами прощаюсь.
«Тюменский комсомолец», 9 мая 1979 года».