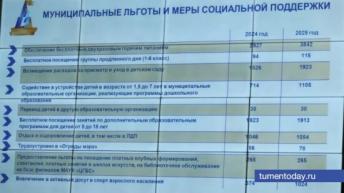В семействе книг о нашем непростом историческом пути очередное прибавление.
«Как закалялась сталь»… «Железный поток»… «Сталь и шлак» … И вот пожалуйста – «Перековка»…
Как видите, название романа-эссе Александра Ребякина гармонично продолжает «металлический» ряд отечественной литературы.
Повествование об истреблении крестьянства как класса не может оставить равнодушным читателя, ведь почти каждой семьи в своё время коснулся сталинский «молот ведьм». Да и сам автор родом с улочки Ханты-Мансийска – улочки, с таким непростым названием – Перековка.
Злоключения добропорядочного семейства полковника Фаркова, лишённого имущества и высланного за полярный круг корыстными односельчанами, прикрывающимися высокими лозунгами. Такова сюжетная основа многослойного романа. Может быть, и рады мы посчитать это художественным преувеличением. Да только не получится на фоне беспристрастной хроники, приведённой автором здесь же.
Церкви-тюрьмы… Шашлыки из умерших младенцев… Грабёж… Насилие…
Исследуя прошлое, автор не избегает честного разговора о настоящем. Не держит кукиша в кармане. За это можно простить перехлёст в сторону идеализации дореволюционной России.
Впрочем, пусть о свежеоткованном детище Александра Ребякина размышляют профессиональные рецензенты. Моей скромной миссией одного из первых читателей романа является лишь пожелание землякам – непременно прочитать эту интересную книжку – местами страшную, местами забавную, не лишённую поэтического обаяния. И главное, полезную. Нельзя нам забывать о временах меж молотом и наковальней…
Перековка
 Роман (эссе)
Роман (эссе)
Александр РЕБЯКИН
Мое раннее детство прошло на Перековке. Это просто улица, которая основана была в тридцатые годы спецпереселенцами в блаженствующем ныне Ханты-Мансийске. И кулаки, и подкулачники давно реабилитированы, современная молодежь даже не ведает о том, что были когда-то репрессии, самая страшная, циничная акция в истории нашего многострадального Отечества. Одного только боюсь, чтоб геноцид народа не обернулся в новом облике. Ошибаюсь – обернулся уже. Одна часть жирует, другая – в нищете. Никто никого никуда не ссылает, вся страна – ссылка.
Если родители мои – враги народа, «мироеды», или еще кто-то там, изгнанные в Сибирь, будучи совсем молодыми (и маме, и отцу было по 20 лет отроду) и плохо понимающими, в чем они провинились перед народом и Отечеством, то кто же мы – подкулачники? Я этот вопрос задавал себе, когда мы всем классом по строгому велению директора школы шли на собрание, где нас должны были принимать в комсомол. На сцену вызывали по одному, как на расстрел. Надобно было подробно рассказать биографию родителей, потому как о своей биографии рассказывать еще было нечего. Докладывали честно: отец и мать из кулаков, ссыльные. Только двое мальчишек из нашего класса, один был ханты, другой – манси, прошли без унижений. Сказали, что биографий родителей не знают, что родились в тундре, где нет никаких биографий, а есть только чум, олени и бескрайнее снежное пространство. Когда возникли волнения коренных нардов Севера, возмущенных грабежами, издевательствами красноармейцев и белогвардейцев, у них отняли охотничьи ружья и из этих же ружей расстреливали. Этих ребят приняли в комсомол единогласно. А мы долго томились в коридоре, ожидая вердикта бюро. «Ну, смотри! – невесть за что пригрозил мне секретарь. – Отныне ты – носитель коммунистической идеологии, а если вредить будешь – осудим по всей строгости, как врага». Сие напутствие получили братья мои и сестры, когда поступали в училища и техникумы, в институты и даже на курсы водителей. Да что там, вся Перековка жила под гнетом этого первобытного, унизительного и бесправного ярлыка. В официальной литературе советского периода значится, что на самых трудных участках находились коммунисты и комсомольцы. Неудивительно, если в КПСС и ВЛКСМ молодежь гнали скопом, как стадо лошадей на водопой. Моей знакомой, чтобы поступить в вуз, понадобилось в срочном порядке вступить в партию, иначе не допускали до вступительных экзаменов. Так постепенно дичала, деградировала изначально обреченная на крах коммунистическая мораль, превратившаяся в некий символ, пропуск к образованию, карьере, к сытой жизни.
Был я недавно на Перековке, встретил знакомого, разговорились. Многие дети кулаков и подкулачников занимают сегодня высокие посты во властных структурах, иные закрепились в окружном, областном центрах и даже в столице. Нормальные, образованные люди. Это качество, мне думается, наследственное, ведь отцы, матушки и деды их приучали к добру и труду.
И вот я вновь иду по Перековке, сохранивший в памяти не только всех, кого встречал на своем пути, но и помнивший, чья калитка, какого цвета и даже куда, в какую сторону падает тень от любого из деревьев, стоявших вдоль дороги. Хотя и избушек многих нет уже, и дерева, которые не пошли под топор, постарели, похилились, опустив слабые ветви. Клочок колхозного поля, кусок неба или просто глоток воздуха из этого сумбурного, кошмарного видения бесчисленное число раз будет являться мне во снах. Он будет, изнемогая, карабкаться вверх, выбираясь из глубокой темноты леса, где я когда-то собирал грибы, а теперь он стоит надо мной в легком тумане грустно и скорбно, словно палач, занесший топор над головой.
Тот, кто какое-то время жил в окружном центре, наверное, заметил, что осень здесь закатывается на Перековке. Не в сосновом бору, не на холмах, а именно в бывшем кулацком поселке, где в пышных палисадах жгучим огнем полыхала рябина. Пара улиц, упирающихся в колхозное поле, обочины, плотно затянутые лебедой и мокрицей, и ветхие избы, вросшие в землю по самые окна. А еще белесый дымок из труб над крышами и божественная тишина. Мама будила меня рано. Солнце выгребалось откуда-то из глухого урмана, светлело, источая тепло. Все было покрыто пышной, распустившейся зеленью. Это не летняя, уже грубая и жесткая, кудрявая зелень, когда листья еще нежны, слабы, и, если после дождя растереть между пальцами клейкий березовый листок, он полон аромата березы. Трава на выпасах поднялась ровной густой щеткой и пошла в трубку. И в мягкие зори, когда в лощинах начинало темнеть, в ней звонко били перепела. Вода в лесных речках, настоявшаяся от корней и прелых прошлогодних листьев, стала темно-желтая, как крепкий чай. Луговые озера все густо заросли хрустким коленчатым хвощом, в котором прятались дикие утки, севшие на яйца.
Не я сопровождал нашу буренку в стадо, она вела меня, полусонного, за собой, шла неторопливо, чтоб не отстал. Пьяный с утра пастух делал в тетрадке пометку, это означало, что наша Пестрянка в общественное стадо сдана, и теперь пастух несет за нее полную ответственность. Я брел домой. О, Боже, как пахло на Перековке черемухой и рябиною. Может, где-нибудь на большом дереве, на самой его верхушке, на ветке, до которой не дотянуться, уцелели не склеванные птицами ягоды? А может, запах являл собой чудную протечь земной благодати, которая исходила не от ягод, а от самих деревьев, истерзанных, измученных, с ободранной листвой и поломанными ветвями, они стонали от боли, наказанные за хрупкость свою и нежность. И запах этот был запахом их беды…
Осень умирала. На небе поубавилось света, звезды были пока не месте, но уже меркли, мутнея, словно яркое расправленное их нутро вытекало, слившись с голубоватой жижей неба. Казалось, звезды медленно погружаются в его глубины. Луна же, напротив, поднялась еще выше, и пятна на ней все больше темнели и набухали.
Отец мой поднимался раньше всех, быстро брился, крупными глотками, торопко пил чай и мчался на службу. Он работал без выходных и праздников. Пожалуй, все деревянные мосты в окружном центре, которые сохранило время, слажены его плотницкой бригадой с Перековки. По мостам этим громыхали груженые телеги и сани с возами сена, ползли тракторы, самосвалы. Мост, бывало, скрипел, прогибался, но выдерживал, словно навьюченный конь, которому очень не хочется бесславно пасть на дороге, а хочется выжить. Отец собирался на работу, а мама хлопотала на кухне. Все свое детство я видел свою маму только на кухне. Сижу тихонько на табуретке, у двери, возле бочки с квашеной капустой, маленький, меня не видно. Смотрю. Мама картошку чистит, полешки подбрасывает в каменку. Нет. Не это главное, что я видел: глаза мамы, темно-синие, темнее, чем небо. Подходит ко мне, гладит шершавой теплой ладошкой по голове. О, как хотелось, чтобы мамина рука подольше лежала на моем затылке. Каюсь, видел пару раз: по вечерам, окончив с делами, когда никого нет, мама любила переодеться в чистое. Хотя бы немножко, две-три минуточки побыть в девичьем наряде, что невольно тогда являлось ощущением своей былой и настоящей в почти полной сохранности молодости и красоты – того капризного богатства, которое, чем дальше прячешь, тем меньше помнишь, тем быстрее оно убывает. А переодевшись, мама и ступала осторожно, словно боясь в себе что-то повредить. И улыбалась ласковей и теплей, оберегая свою, ее одну касающуюся тайну, для которой еще не наступило время.
Кулацкий поселок пробуждался почти одновременно. Враз, словно по сговору, начинали лаять собаки и кричать петухи. На улице Колхозной маячили фигуры – люди шли отмечаться в комендатуре; не убег, не умер, речей антисоветских не вел. Как бы ни жили люди на Перековке дружно, как бы ни помогали друг другу в суровой и бедной по тем временем жизни, всегда находился кто-то, кто бегал под покровом темноты к коменданту и докладывал, о чем мужики говорят; кого поругивают, как о товарище Сталине отзываются. Наша Пестрянка – не просто кормилица, она, можно сказать, самый настоящий антисоветский элемент. Однажды проникла в огород коменданта и съела почти всю растущую там капусту, напоследок оставила, будь она неладна, большую парную кучу прямо у крылечка. Наказали, конечно. Штраф выписали. Отец хотел Пестрянку вожжами побить, но мама уговорила его не делать этого, ибо пропадет молоко, а без него всему семейству – погибель. Да разве молоко только? Любила мама Пестрянку так, как только мама одна и умеет любить…
Проводил я нашу хулиганку на пастбище, устроился на сеновале, укрылся телогрейкой. Спать уже не хотелось, да и не было смысла засыпать – до рассвета всего ничего. На небе рядом с седым облаком возникла вдруг большая серебристая звезда. От ее сияния радостно билось сердце, вновь избавило меня от земного притяжения и воздушно, невесомо перенесло в сказочный мир, где все такое легкое и чистое.
Спецпереселенцы на Перековке не любили вспоминать о прошлом. Поставив какой-никакой дом и нарожав ребятишек, о прошлом просто не хотелось думать, ибо надо было жить настоящим, которое затягивало своими заботами настолько плотно, что каждый удачный день казался праздником. Плохо, когда ты оторван от родины. Но второй родиной скоро становится та земля, где ты поставил дом, посадил дерево, где появились на свет твои дети. Вот и для меня Перековка стала чем-то очень близким, волнующим и бередящим душу.