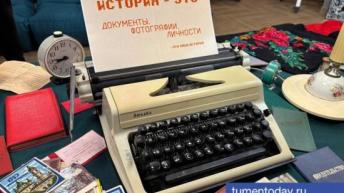КАК ЭТО БЫЛО
28 июля 1942 года вышел знаменитый приказ народного комиссара обороны СССР И.В.Сталина за №227, санкционировавший создание заградительных отрядов, штрафных рот и батальонов. Так началась история штрафных военных подразделений в Красной Армии. Шел 402-й день войны…
Положение на фронтах было удручающим. Под угрозой оказались стратегически важные (нефть, хлеб, металл) Сталинградское и Кавказское направления. В целях укрепления порядка и дисциплины в действующей армии разрешалось формировать «в пределах фронта от одного до трех штрафных батальонов по 800 человек, куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушениях дисциплины по трусости или неустойчивости. Ставить их на наиболее трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной».
Согласно тому же приказу в каждой армии могли быть созданы от пяти до десяти штрафных рот численностью 150-200 человек. В них направляли «рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины». Срок пребывания в штрафном подразделении определялся приказом по полку (дивизии) до трех месяцев, а также до ранения в бою (тяжелого или легкого), до совершения подвига или представления к награде. Все освобожденные из штрафных частей восстанавливались в прежних званиях и частях.
С сентября 1942-го по май 1945го через штрафбаты и штрафроты прошло 427910 человек. Только за один 1944 год общие потери красноармейцев-фронтовиков (убитые, раненые, пленные) составили 170298 человек.
Необходимое утонение: штрафбаты состояли из провинившихся офицеров, в штрафные роты направлялись рядовые, сержанты и уголовные элементы, этапированные на фронт из мест заключения.
Писатель-фронтовик, Герой Советского Союза, бывший штрафник Владимир Карпов рассказывает, что «командирами штрафных подразделений назначались только строевые офицеры, причем наиболее опытные и перспективные. Нарушивший этот приказ тут же сам мог оказаться в штрафбате. Более того, назначение командиром в штрафную роту для офицера считалось удачным: там воинское звание присваивалось на одну ступень выше».
Штрафной батальон, сформированный из бывших заключенных, был одно время в подчинении у будущего Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Не понаслышке знавший, что такое «зэка», он понимал положение штрафников и не старался изменить их особый образ поведения в бою. Штрафники, по словам одного из очевидцев, шли в бой со страшным воем, в котором можно было различить отборный русский мат. Вой был таким жутким, что его и свои-то слушали с холодком в спине, а уж немцы так боялись, что зачастую ретировались (этот рассказ бывшего штрафника был в свое время записан на видео и вошел в фильм, посвященный 55-летию Победы).
Расскажем вкратце о двух штрафниках – уроженцах Тюменского района, чьи судьбы складывались по-разному, и только конец у обоих был одинаков.
Адиятулла Калбаевич Рамазанов родился в 1909 г. в д.Есаулово. В 1929 году окончил курсы учителей, вечерами учил старших грамоте. Работал в местном колхозе «Авыл яшьляре» учетчиком, продавцом местной лавки. В 1940-м был приговорен к лагерным работам (по второй категории). Наказание отбывал в Джезказганской области Казахстана – там, где позднее появится космодром Байконур. С началом войны Рамазанов был мобилизован на фронт в составе штрафной роты. Погиб в 1942 году.
Афзалутдин Мухаметшаевич Сагидуллин, также уроженец д.Есаулово, 1912 г. рождения, в семье был старшим из детей. Учиться ему не довелось, с юных лет работал в колхозе. Афзалутдин был очень вспыльчивым, импульсивным, неуправляемым. Эта его горячность имела драматические последствия. Однажды, сойдясь в споре с жителем соседней деревни, Афзалутдин ударил своего «оппонента» по голове твердым тупым предметом, в результате чего потерпевший скончался на месте.
Сагидуллина осудили за убийство и этапировали на Дальний Восток. На фронт он попал также в составе штрафной роты. Воевал на Втором Белорусском фронте. Погиб в 1942 году.
Оба – и Рамазанов, и Сагитуллин, и десятки, сотни других, в разное время преступивших закон, ценою жизни искупили свою вину. Они заслужили место в строю тех, кто погиб, защищая Родину – одну на всех.
Отношение к приказу №227 было весьма неоднозначным. Большинство считали его жестоким, бесчеловечным, аморальным. Другие искренне были убеждены, что его появление – вынужденная мера. Недавно опубликованные документы из архива президента свидетельствуют: суровые меры были инициированы снизу, в письмах, поступавших Сталину.
Так, 25 июля 1941 года майор Павел Брикель на девяти страницах, адресованных лично генсеку, описывает отход войск Красной Армии и случаи массовой паники, спровоцированной слухами о вражеских десантах: «Тысячи бойцов, охваченных паникой, без оружия, босых, никем не управляемых, часто сидящих верхом на крестьянских лошадях без уздечек, наводнили собою дороги, села от границы почти до самого Киева, заходя в каждый колхоз, в каждый двор, попрошайничая, и своим видом и рассказами сея панику. Тысячи машин, тракторов, снарядов, орудий и т.д. брошено по дорогам часто без малейшей попытки спасти материальную часть…».
Известный советский историк академик А.Самсонов, сам участник войны, говорил в одном из интервью, что особая суровость приказа №227 заключалась в том, что «он исключал возможность учета конкретных ситуаций, в том числе, когда войска попадали в безвыходное положение, и только отход мог их спасти. Суть этого грозного документа такова: любое отступление без особого распоряжения вышестоящего командования категорически запрещалось. За невыполнение – расстрел. Хотя в маневренной войне сдача позиций, как известно, может быть и тактическим ходом (наглядный пример – сдача Кутузовым Москвы в 1812 году, предрешившая исход Отечественной войны. – В.П.). Документ сыграл свою роль в укреплении морального духа и воинской дисциплины. Может быть, его категоричный и жесткий тон был необходим…».
Владимир ПОРОТНИКОВ