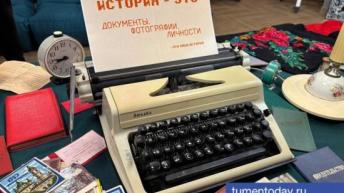«Ведь мы ж не просто так, мы – штрафники. Нам не писать: «Считайте коммунистом…»
Дядя Саша был среднего роста, крепкого телосложения. Стрижен почти наголо, с небольшим русым чубчиком, серыми внимательными глазами-буравчиками. Взгляд неприятный, вприщур, смотрит, как сквозь прорезь прицела. Короткий крючковатый нос. Немногословный. Вспыльчивый. Чуть что не так, в глазах вспыхивал яростный огонек, лицо слегка бледнело, на скулах вспухали желваки.
Участвовал в войне с финнами в 1939 году, воевал на германском фронте с 1941 по 1943 годы. При обороне Сталинграда получил ранение и в апреле 1944-го был списан из армии вчистую. У него была изуродована правая рука, на которой не гнулись скрученные в лодочку пальцы. После госпиталя работал в Сталинграде комендантом общежития. Когда окреп после ранения, вернулся в родную Старую Заимку. Служил в пожарной охране. Пожарка находилась возле конюховки, где трудился его брат, мой дядюшка Степан, и если последнего не было, я шел к дяде Саше. Мы с ним по лестнице поднимались на площадку пожарной каланчи, я садился рядом и слушал его рассказы о войне.
Вот запомнившиеся интересные моменты из его фронтовой биографии.
– Нас, необстрелянных бойцов, прямо с марша всю роту бросили в бой у какого-то села, и мы сразу попали под мощный артобстрел. А потом на нас пошли танки с пехотой. Очнулся: голова гудит, перед глазами все плывет, а передо мной детина: рукава рубахи закатаны. Грозит автоматом: «Руссиш швайн!». Привели меня в село, за которым проходила наша линия обороны. Сытые белобрысые парни с автоматами с интересом разглядывали. Даже не били. Никакой ненависти, в глазах одно любопытство… Обыскали, все что было у меня, забрали – сняли часы, брючной наборный кавказский ремешок, даже бензиновую зажигалку из патронной гильзы.
Ближе к вечеру приехали два немца на мотоцикле, один из них, что-то проорав, ткнул в меня пальцем: «Шиссе» – и махнул рукой. Другой качнул в мою сторону стволом автомата: «Ком, Иван! Шнель!». И повел за село к оврагу. Идем. Думаю: «Все, Санко, капут тебе пришел». Слышу: «Хальт!». Лязг затвора, и… тишина. Поворачиваюсь, а он ствол автомата вверх, дал очередь над моей головой, засмеялся и махнул рукой. Я прыгнул в овраг и что было сил бросился бежать, не разбирая дороги. Когда стемнело, ориентируясь по звездам, двинулся на восток. Шел, крадучись, полями и перелесками, держась проселочной дороги, прислушиваясь к неясным звукам и шорохам. Питался колосьями пшеницы или ржи. Нарву, перетру в ладонях – и в рот.
В села боялся заходить. Но голод гнал меня к людям. Шел долго. Однажды вдалеке послышался лай собаки, потянуло дымком. Там жилье, там люди, там опасность. Но я пошел на этот лай. Выйдя из зарослей кустарника, в темноте наткнулся на плетень. Он был невысокий и почти вплотную подходил к крайней хате. Пахло каким-то варевом, и меня чуть не стошнило. Совершенно обессилевший, подкрался к окну, но не мог разглядеть – есть ли ктонибудь внутри. Терпеть голод уже не было никаких сил. Забыв об осторожности, постучал.
Дверь открыла хозяйка средних лет, не побоялась, впустила, накормила вареным буряком и уложила спать – вместо подушки в головы к своим ребятишкам, забросав тряпьем. Ночью дважды приходили немцы, посветят фонариком, видят, что дети спят и уходят. Под утро, еще по темноте, хозяйка разбудила меня, дала в дорогу пару вареных буряков и луковицу, показала направление, куда идти, перекрестила. «До конца дней своих буду помнить того немца и ту женщину», – говорил дядя Саша, смахивая со щеки слезу. А человек он был крепкого характера, без лишних сантиментов.
Не знал дядя Саша, что побег из плена, возвращение к своим приведут его в штрафную роту…
Он рассказывал:
– Когда я вышел к своим, меня сразу же отвели в особый отдел. Допрашивал сотрудник СМЕРШа, молоденький лейтенант, который каждый день задавал одни и те же вопросы почти месяц. Как же это ты попал в плен? Почему сдался? Почему немец не расстрелял? Я рассказывал, все как есть, изо дня в день повторяя одно и тоже.
– Все, что ты мне тут говоришь, – орал следователь, – занимательно, но неубедительно!
Бить, правда, не били.
Потом, видимо, не найдя ничего криминального в моем рассказе, или, может, ему надоело, принял решение и написал резолюцию: «Три месяца штрафбата. Искупать позор плена кровью…».
Уже в 1941 году в боях под Москвой, Смоленском и Вязьмой войска, которыми командовал генерал-майор К.К.Рокосовский, пополнились частями из «штрафников». Это были особые формирования для отбывания военнослужащими наказания за уголовные и воинские преступления. Бывший сержантский и рядовой состав, офицеры, а также лица, проживавшие на оккупированной территории или бежавшие из плена, вышедшие из окружения и попавшие под подозрение фронтовой контрразведки.
– Меня перевели в какой-то лагерь, – вспоминает дядя Саша. – Территория огорожена колючей проволокой, навес от дождя и ветра. Было нас человек 300, если не больше. Никуда не выпускали, охраняли. Кормили раз в сутки. Примерно через неделю приехали какие-то командиры, быстро распределили нас, кого куда. И попал я в штрафную роту. Во главе роты тоже были штрафники… Разжалованные офицеры-фронтовики. Они никогда не прятались за наши спины, первыми поднимались в атаку. Терять-то было нечего… Подсчитано, что на передовой пехотинец в среднем живет 24 часа. А командиры взводов, рот и того меньше, как говорили на фронте, полтора боя. Если выживал в первом бою, то во втором обязательно убьют или ранят.
Штрафников бросали на наиболее опасные участки боевых действий. Срок пребывания определялся тремя месяцами, а там уж как повезет…
Воевали «штрафники» лихо. Если была возможность, как можно ближе подбирались к окопам противника и, примкнув штык, заткнув саперную лопатку за пояс, по сигналу бросались в атаку. Когда они шли в бой, над позициями стоял такой густой мат, что немцы, бледнея от страха, с воплями «штрафирэн», «штрафирэн» бросались наутек. Или сопротивлялись с отчаянностью обреченных. Штрафники пленных не брали. Поставленную задачу надо выполнить любой ценой, да и отступать было некуда. Впереди смерть, сзади – заградительные отряды НКВД с пулеметами.
Дядюшка говорил: «Самое страшное в бою – это час ожидания атаки. Напрягаешься и мобилизуешься для встречи и схватки с противником. Возбуждение такой силы непереносимо, порой не у всех выдерживают нервы. И бегут… В обратную сторону. Это расстрел. Позорней для солдата смерти нет».
Еще дядя Саша рассказывал, что если повезло и ты добежал до первой траншеи противника и дело доходит до рукопашной, тут вообще звереешь. Трудно разобрать, где свои, где чужие. Вся надежда на интуицию.
– Помню, по сигналу бросились в атаку. Бежали цепью, и два солдата, что были рядом со мной, вдруг упали, а я добежал. Сошлись в штыковую. Мы перекололи всех фрицев, высотку возле села взяли. Судьба вновь была ко мне благосклонна.
Помолчал и добавил:
– Пленных я не брал никогда.
Как водится, атака прекращалась не сразу, постепенно затихая одиночными выстрелами и очередями «зачистки». Оставшиеся в живых проверяли захваченные блиндажи и окопы, собирали трофеи, добивали немцев, которые еще подавали признаки жизни. Жестокая необходимость. Не раз случалось, солдат во время атаки жалел раненного или поднявшего руки фашиста. Бежал дальше и получал пулю в спину…
Напряжение атаки постепенно стихает, отступает. О бое напоминает лишь мелкая дрожь во всех мускулах. Ты выжил… Как в стихотворении:
«Бой был коротким… А потом глушили водку ледяную,
И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую…»
– Был случай, меня спасла санитарка. На наши позиции был неожиданно брошен десант, дрались врукопашную. Заколов штыком очередного немца, я бросил свою винтовку, схватил его автомат, но что-то замешкался. И вдруг сзади слышу отчаянный вопль: «Саш-а-а…!». Инстинктивно прянул вперед, в сторону и с разворота дал очередь из автомата. На меня упал здоровенный немец, распоров мне при этом кинжалом куртку на спине от плеча до пояса. Глянул: на бруствере окопа у моего станкового пулемета сидит, обхватив трясущимися руками голову, белая, как мел, наша санитарка.
Потом его штрафную роту, вернее то, что от нее осталось, направили на отдых и переформирование. Он попал на оборону Сталинграда, воевал пулеметчиком. Дядя Саша вспоминал, как их расчет накрыл немецкий реактивный снаряд. Их посчитали убитыми, писари занесли в списки безвозвратных потерь и отправили домой похоронку. Когда же после боя, почти через сутки, похоронная команда стала переносить их к братской могиле, случайно выяснилось, что он жив.
– Ночью меня в бессознательном состоянии переправили через Волгу. Очнулся на операционном столе. Слышу, кому-то хотят руку отпилить. Машинально схватился за свои и правую не почувствовал. Заорал:
– Не дам отрезать! Доктор, не отрезайте руку!
Тот ответил:
– Хорошо, оставим. Молись на свою удачу, но за твою жизнь я не отвечаю.
Потом, обращаясь ко мне, добавил:
– Начнется гангрена – сам виноват.
– Спасибо, доктор, – говорю, и отказался от наркоза, боялся, что в бессознательном состоянии мне все-таки отрежут руку и терпел нечеловеческие муки, пока обрабатывали рану.
К слову сказать, солдатам выдавали смертные медальоны – маленькие пластмассовые патроны. В него вкладывалась свернутая трубочкой записка с данными солдата – имя, фамилия, адрес семьи...
– Я «смертники» не заполнял, выбрасывал. Толку от них никакого: они терялись или бумага размокала, а некоторые солдаты и писать-то не умели. Среди нас ходило поверье: заполнил «смертник» – обязательно убьют.
При обороне Сталинграда тяжело было с боеприпасами, водой, питанием. Но немцы иногда «выручали». Для окруженной группировки фельдмаршала Паулюса ночью с самолетов сбрасывали мешки с наградами и продовольствием.
– Иногда немецкие летчики второпях сбрасывали свой груз прямо на наши позиции. Хотя позициями их назвать было трудно. Иной раз рядом, буквально через улицу, даже через этаж были немцы. Расстояние между нами, ну буквально на бросок гранаты. Однажды такой мешок упал рядом с моим укрытием. Какое счастье – там оказался хлеб! Я за один присест съел три булки. Правда, сухари были всегда, но ведь хотелось и горяченького. Повезет, если рядом окажется убитая лошадь. Нарубишь саперной лопаткой несколько кусочков мерзлого мяса и варишь в котелке. Это уже пиршество для желудка. А у кого котелка нет, то просто в каске варили.
Бои шли за каждый дом, подвал, подъезд. Ни на минуту не прекращались снайперские дуэли. Но мы выстояли. Победили. Перемололи и пленили 6-ю армию Фридриха фон Паулюса, лучшую на тот период армию Вермахта.
Я думаю, что выжить в такой мясорубке было просто невозможно. Может, дядю хранил какой-то ангел? Случайно ли, когда начали хоронить убитых солдат, кто-то из похоронной команды сказал: «Подождите, давайте отдохнем, покурим. Нам, да и им (кивнув на мертвых) спешить некуда»? Так вот стояли они и курили, и вдруг кто-то заметил, что у одного солдата, лежащего в воронке среди трупов, возле носа надулся красный пузырек:
– Братцы! Да ведь он вроде живой!..
Об этом ему в госпитале потом рассказал раненый солдат из той похоронной команды.
И снова случай. Или солдатское везение?
НА СНИМКЕ: Александр Водилов.
Виктор ВЕСЕЛОВ