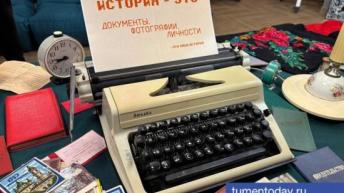Степан Андриянович Водилов – мой дядюшка – родился 27 февраля 1911 года. Был он чуть выше среднего роста. Прямой, с гордо посаженной головой, физически крепкий, смугловатый, лицо бритое. Усат. Под широкими густыми бровями большие пронзительные карие глаза. Темные с проседью слегка кучерявые волосы, прическа «бобриком». Было в нем что-то офицерское. Ко мне он очень хорошо относился и везде брал с собой. Катал то на лошади, то на телеге, то на таратайке. Зимой обожал ездить в кошёвке, и я с ним. Надо сказать, очень любил лошадей. Работая в колхозе конюхом, ухаживал за ними: чистил, стриг, подковывал. Объезжал молодых, приучал к упряжи. Я ни разу не видел, чтобы он применил к какой-нибудь лошади вожжи или кнут. И они подчинялись ему, а ведь у каждой был свой характер. Любовь к животным передалась и мне.
У дяди Степы было ружье, системы Бердана 28-го или 24-го калибра, уже не помню, таких теперь нет. Он любовно называл его «моя берданка». После войны в лесах водилось много волков, и если он ехал в рощу, то всегда брал его с собой. Но почему-то ни разу не дал мне выстрелить, сколько я ни просил.
Дядя Степа геройски сражался с 1942-го по 1945 г.г. на Ленинградском фронте. Был в пехоте автоматчиком. Воевал в Норвегии, штурмовал Киркинес, брал Портсамо. Прошел всю Прибалтику, Польшу, дошел до Берлина. Рассказывал о штурме Зееловских высот – «…Там я видел горы трупов наших погибших солдат…». Делился воспоминаниями, как в Берлине брали штурмом каждую улицу, каждый дом, подвал, чердак. Немцы оказывали яростное сопротивление, и чем ближе были к центру города, тем оно усиливалось. «…Мы вдвоем заскочили в один дом, пошли по комнатам, тихо, никого нет. Стали уходить, и вдруг – выстрел, шедшему сзади товарищу пуля попала в затылок. Оказывается, немец затаился в шкафу. Я его застрелил из автомата. После того случая мы взяли за правило: при входе в квартиру строчить из автоматов по кроватям, ящикам и шкафам. Из вещей я старался ничего не брать, опасаясь мин-ловушек. Продукты тоже не трогал. Зайдешь в комнату, а там красиво накрытый стол, как бы в спешке брошен, и чего только на нем нет: колбаса, сало, шнапс… Но иногда все было отравлено. Особенно вино. На столе стоит бутылка, рядом стакан или рюмка наполненная, большая такая, как бы приглашает – выпей, жарко ведь! На дворе май, да и войне конец, выпей! Очень много наших ребят «погорело» на этом.
Я вообще никогда не брал чужого. После боя некоторые ребята ползали за трофеями, и многие погибали на мине или от пули снайпера. А я не любил шарить по карманам убитых солдат – свой ли, чужой ли – все равно. И еще, никогда у меня не было вещмешков, все было в кармане. Кисет с табаком, зажигалка и клочок газеты, бритва, носовой платок, в который завернут кусочек мыла. Два – три черных сухаря. Иголка с ниткой воткнута в складках пилотки или шапки. Котелок с фляжкой на поясе, ложка за голенищем. А вещмешок мешал, тяжело на марше, да и в бою, где перебежками, где ползком, а он торчит горбом сверху, хорошая мишень для снайпера. Может, поэтому и остался жив» – рассказывал дядя, вдавливая каблуком в землю окурок, и тут же скручивал другую цигарку крепкого домашнего самосада.
Я спрашивал: «Дядя Степа, а страшно ли на войне?».
На что тот отвечал: «Страшно... А чтобы было не страшно, перед атакой выдавали водку, назывались «наркомовские» сто грамм, а порой и больше. Водку привозили на целую стрелковую роту, а от нее порой после боя оставалось человек 30 – 50. Но я никогда не пил. Ведь пьяный солдат скорее попадает под пулю, становится легкой добычей врага. У пьяного притупляется чувство опасности, страха, а на войне страх присутствует всегда. Не страшно, что убьют, страшно, когда идут танки, страшен авианалет, когда с воздуха передовую «утюжат» «мессеры» и «юнкерсы». Страшен артобстрел, когда немцы методично и строго по времени, хоть часы сверяй, обрабатывают артиллерией наши позиции.
На передовой до того привыкаешь к различным звукам, что уже знаешь, прислушавшись, где какое орудие бьет. Вот легкая артиллерия, вот стучит пулемет МГ-16, издавая шуршащий звук: шррр, шррр. Кстати, очень хороший ручной пулемет времен Второй мировой войны! Как швейная машинка – «та-та-та-та» – ему отвечает равномерным стуком наш старичок – станковый пулемет «Максим». Вот скрипит «Ванюша» – немецкий реактивный шестиствольный миномет, прозванный «скрипкой». Он издает противный скрипучий звук, звеня заунывной погребальной нотой. А ты уже знаешь приблизительно, где снаряд или мина упадут.
Очень страшно, когда бьют немецкие тяжелые гаубицы. Снаряды этих орудий ни с чем не спутать. Солдаты-окопники почему-то их называли «чемоданами». Звук летящих стопятидесятимиллиметровых, сорокакилограмовых снарядов пронимал до самых печёнок, вызывал утробное ощущение неминуемой смерти. Услышишь команду: «Ложись!» и падаешь на дно траншеи, вжимаясь в матушку- землю. А во время взрыва этих снарядов словно кто-то железными пальцами давит на уши. Мощнейшая взрывная волна по инерции распространялась по траншее на несколько десятков метров, круша все на своем пути. То тут, то там валяются искореженные винтовки, сплющенные солдатские котелки и каски, трупы с вывороченными внутренностями и переломанными костями. Порой страшна и тишина. Сидишь в траншее или в окопе в ожидании чего-то неопределенного. Тихо так, что в ушах звенит... Еще страшен час ожидания сигнала к атаке… Страшно, Витенька, страшно!» – и дядя Степа вдавливал в землю каблуком сапога очередной окурок.
Медаль «За боевые заслуги» гвардии-сержант Водилов получил за уничтожение пулеметного гнезда.
«Дело уже в Германии было. Мы двигались вперед, а он бьет и бьет, головы не поднять. Послали одного, погиб. Другого – и того убил. До меня очередь дошла. Пополз к нему по-пластунски, потом перебежками, как заяц. А пулемет вдруг смолк. Смотрю, летит граната с длинной ручкой, ударилась мне об ногу, отлетела в сторону, но почему-то не разорвалась. И тут же летит другая. Я ее перехватил и бросил обратно. Упал. Громыхнул взрыв, я вскочил и из автомата по гнезду длинной очередью! Тишина. Подошел, смотрю, на ворохе стреляных гильз лежит молодой немчик в черной форме, рядом пулемет валяется».
Командуя взводом гвардейцев при штурме Зееловских высот, отважный сержант был вторично ранен, но не покинул поля боя, за что награжден медалью «За отвагу». Дядя Степа вспоминал такой случай: «Берлин. Едем мы на машине, вдруг на балкон выскакивает девица и из автомата по нам открывает огонь. Я навскидку короткой очередью срезал ее, она выронила автомат и повисла на перилах балкона. И ведь совсем молодая девчушка, лет 16-17».
Вернулся гвардии сержант Водилов домой с несколькими ранениями и медалями.
После войны у него еще долго болели фронтовые раны. Помню, как он лежал на кровати, накрытый тулупом, и говорил, что ему холодно, хотя стояло лето, на дворе жара, и мне, мальцу, это было непонятно. Теперь-то понимаю, что у него был сильный жар. Кому-то он рассказывал: «Не могу, болят и болят раны, гноятся, кровоточат, а ведь сколько времени прошло после ранения. Не выдержал, взял перочинный ножичек, хорошо наточил его и вскрыл язвы. А там бинты натолканы. Я их выковырял, раны водкой обработал, перевязал. Потом еще несколько раз перебинтовывал, смачивая водкой и смазывая гусиным жиром. Помаленьку все прошло».
Детей у него было трое, все довоенные: Александр, Леонид и Нина. После войны он их долго искал по приютам и детским домам. Дело в том, что они с женой Дуней жили в Свердловской области. Оттуда, заехав на два дня к родителям, он и ушел на фронт. Воевал три года, а в это время умерла от родов его жена, и детей разбросали по разным детским домам. Потом средний сын, Леонид, сам нашел отца и брата с сестрой. Дядя Степа женился во второй раз, взяв в жены Марию Головкину. Прожили они довольно долго, пока она не умерла. Степан женился в третий раз на Клаве Пиминовой и прожил с ней до самой своей смерти.
Дядя Степа курил самосад. У него были в огороде две небольшие грядки, где он сажал табак. Я помню это растение с красивыми цветками. Дядюшка собирал его и в маленьком деревянном корытце рубил топориком очень мелко, потом сушил. Получалось что-то вроде махорки. Табак он держал в кисете, с которым никогда не расставался. Дядя Степа любил по праздникам выпить, а во хмелю становился буен и не прочь был почудить. Пожарка и конюховка, где он работал, были рядом с магазином. В праздник, приняв на грудь, шел в мороз в одной нательной рубахе, размахивая оглоблей над головой, и орал вздорные песни. Все в деревне слышали и говорили: «Идет пьяный Степка-казак». Уж тут к нему было не подступиться, и не дай бог кому попасть под его горячую руку. Хотя, в общем-то, никого не трогал, не бил.
Судьба хранила дядю Степу и в мирное время. Родные рассказывали, как однажды, работая конюхом, он с напарником Осипом поехал куда-то по работе. На Новозаимском переезде нужно было пересечь железную дорогу. Остановились, но лошадь была молодая и, испугавшись шума приближающегося поезда, рванула и угодила под поезд. Осип с лошадью погиб на месте. А Степан чудом остался жив, получив легкие ушибы. Вот уж действительно везение. Не зря отец говорил: «Кому в воздухе сгореть, тот в воде не утонет». Зато потом Степан четыре года по суду выплачивал колхозу компенсацию за погибшую племенную лошадь.
В возрасте 62-х лет 3 февраля 1973 года Степан Андриянович тихо умер в своей постели и был похоронен в Старой Заимке, на фамильном кладбище.
Виктор ВЕСЕЛОВ