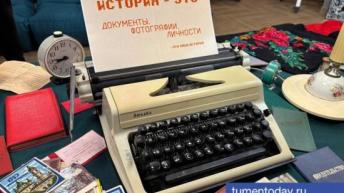У каждой памяти есть свои спящие почки. До поры до времени зябнут они в семейных архивах, словно забытые близкими одинокие старики. Но стоит памяти сердца согреть их теплом благодарности, как наступает пробуждение. И тогда просыпаются к жизни майскими листьями те, кого давно уже нет с нами. Те, кто двадцатилетними лейтенантами, моряками, солдатами уходил на фронт.
Сегодня, глядя на нас с пожелтевших фотографий, они вопрошают: «Как вы живете? Вы, ради которых мы отдавали на войне самое дорогое, чтобы никогда, никогда на нашей земле не бушевала фашистская чума?».
Проснувшиеся почки моей памяти – воспоминания о Великой Отечественной войне ее участника, моего дяди, Павла Ивановича Чекалова.
«Наша 75-я отдельная морская стрелковая бригада (75-я омсбр) была сформирована в ноябре 1941 года в городе Казалинске Казахской ССР. В основном – из моряков Краснознаменного Балтийского флота (учебного отряда подводного плавания им. Кирова), Краснознаменной Каспийской флотилии, Черноморского флота, а также призванных из резерва моряков.
Костяк командного состава бригады образовался из выпускников и командиров Каспийского Высшего Военно-Морского училища и Высшего Военно-Морского ордена Ленина Краснознаменного училища им. Фрунзе. Из выпускников 41-го 85 лейтенантов первого училища были назначены командирами рот, взводов, подразделений. Примерно столько же выпускников ВВМОЛКУ им. Фрунзе получили такие же должности.
В структуру бригады входило три стрелковых батальона по 715 человек в каждом и один минометный. Первым батальоном командовал капитан 3-го ранга Бондаренко, вторым – капитан Розенберг, третьим – капитан- лейтенант Горобец. Минометным руководил капитан 2-го ранга Топлянинов. Кроме этих четырех подразделений 75-я омсбр включала два артиллерийских дивизиона и один минометный. Все они перемещались на конной тяге, что потребовало содержать 812 лошадей. Рот насчитывалось значительно больше: восемь специализированных, наряду с автоматчиками были у нас саперы, разведчики, связисты, медики- санитары, танкисты, водители. В общем численность нашего подразделения была 4334 человека.
Командиром нашей бригады стал начальник Каспийского ВВМУ капитан I ранга К.Д. Сухиашвили. Конечно, не случайно. Он сочетал в себе черты передового советского морского офицера: принципиальность, непреклонную волю, высокую требовательность командира с необыкновенной душевностью и исключительной заботой о подчиненных.
Комбриг с первых же дней установил в бригаде железный флотский порядок. Не раз на командирских совещаниях он говорил: «Вам доверены традиции русского советского флота – отвага, верность и единство. Вы должны пронести сквозь пламя войны честь военного моряка». Это доверие не могло не наполнить гордостью каждого из нас, помнящего о мужестве и стойкости моряков как в годы революционных бурь, так и гражданской войны.
Из Казахстана в пункт назначения – город Люблино Московской области – добирались мы поездом. Прибыли сюда 18 декабря 1941 года. Именно здесь 75-я омсбр была включена в состав войск Московской зоны обороны. А через 17 дней, 5 января 1942-го, мы перешли в подчинение командиру 2-го гвардейского стрелкового корпуса и по его распоряжению передислоцированы в течение трех дней в район населенных пунктов Нахабино, Павловская Слобода, Захарово, что на Волоколамском направлении.
В ту пору наше воинство и народ жили воодушевлением: немецко-фашистские орды отброшены от Москвы. Первая переломная победа одержана. Значит, и другие последуют за ней?! Но кто знал тогда, в середине января 1942-го, какой ценой они достанутся?
Никогда не забуду станцию Бологое… На марше наши колонны. Непрерывная бомбежка немцев и стрельба. Сорокаградусные морозы, ледяной ветер слепил глаза. Мы шли по снежной целине под свинцовым дождем, часто проваливаясь в снег по пояс. Люди не спали сутками. На коротких привалах матросы пластом валились в снег и засыпали, забыв о голоде. Через 10-15 минут командиры поднимали их – и марш продолжался. Многие, шатаясь от усталости, падали. Казалось, нет сил двигаться дальше. Но молодые командиры, двадцатидвухлетние лейтенанты, шли, не останавливаясь, вперед, увлекая за собой матросов.
Особые трудности испытывали артиллеристы и минометчики: лошади обессилели, пришлось тащить орудия на себе. В этом тяжелом походе все с благодарностью вспоминали утомительные учения в период формирования бригады. Вот когда выковывались воля и выносливость!
Ставка Верховного Главнокомандующего поставила войскам Северо-Западного фронта (в него вошла и 75-я омсбр) задачу: ударами из района Старой Руссы в южном направлении и из района Молвотица-Липье в северном направлении окружить и уничтожить демянскую группировку противника.
Решение ее – труднейшее. И по напряжению сил, затратам техники, и по непредсказуемым потерям. Каждый командир, от высшего до низшего ранга, нес личную ответственность за исход боевых операций. Их масштаб поражал своей громадностью. К примеру, соседу 2-го гвардейского стрелкового корпуса – первому гвардейскому стрелковому корпусу – приказано было нанести удар немцам из района юго- восточнее Старой Руссы в направлении Рамушево-Залучье для ликвидации коммуникаций врага и соединиться с частями 34-й армии, наступавшей на Залучье с юга.
Нашей же бригаде предстояло прорвать немецкую оборону и совершить рейд по глубоким тылам 16-й немецкой армии, чтобы пробиться к городу Холм и соединиться с частями 3-й Ударной армии. И тем самым создать внешний западный фронт для окружения демянской группировки противника.
Выполняя приказ, ночью 4 февраля первый батальон бригады под командованием капитана 3-го ранга Бондаренко и 2-й батальон под командованием капитана Розенберга, под общим руководством командира бригады полковника Неминущего атаковали гитлеровцев в селе Михалкино. Одновременно с нами 3-й батальон (командир – капитан- лейтенант Горобец) при поддержке минометного батальона (командир – капитан 2-го ранга Топлянинов) наступали на село Сычево. Оно располагалось вдоль большака Старая Русса-Демянск и занимало господствующее положение, исключительно удобное для обороны. Противник создал здесь прочную защиту, имея десять танков, артиллерию, минометы, пулеметы. Но ночной атаки моряков гитлеровцы не выдержали и бежали из Сычева, оставив на поле боя 150 трупов, 10 орудий, 4 миномета, 8 пулеметов и 5 автомашин.
Лиха беда начало. После села Сычева мы освободили от фашистов деревни Ожедова, Говорушка, Нижние и Средние Котлы, Колышкино, Ласытино, Иван-Березка, Новое, Пробуждение. Чуть позже – населенный пункт Борисово. Что увидели моряки в освобожденных селах и деревнях? Жуткие картины чудовищных преступлений: расстрелянные старики, женщины, дети. Те, кому удалось спастись от фашистских палачей, встречали нас со слезами на глазах.
Успешные действия 75-й омсбр на тыловых коммуникациях 16-й армии противника позволили командиру 2-й гск ввести в бой 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Наступление развивалось по рекам Редья и Ловать в направлении на город Холм.
…Тяжелое сражение произошло за деревню Костково, которую немцы подготовили к круговой обороне, построив дзоты и превратив подвалы построек в своеобразные доты. Видимо, на этом рубеже они решили задержать наше продвижение. И просчитались: их сопротивление было сломлено.
Заняв Костково, бригада без передышки продолжила свой путь на юго-запад. Ее высокий боевой дух поддерживался всеми формами партийно-политической работы, включая политинформации, комсомольские и партийные собрания, приуроченные чаще всего к предстоящим боям. Большую роль в нашем душевном и духовном настрое играл командир бригады Константин Давыдович Сухиашвили. Он заражал матросов и офицеров своим неистощимым оптимизмом, показывал пример крепости и бодрости духа. Часто верхом на коне, невзирая на артиллерийские и минометные обстрелы, объезжал он огневые позиции. Мы видели его в расстегнутом белом полушубке в окопах и в населенных пунктах, куда моряки принесли долгожданную волю. Мы внимали разумом и чувствами его боевому распоряжению: «Не дайте оторваться фашистам. Не сидите на пятках, а смелее обходите, отрезайте им пути отхода».
Такая восприимчивость порождала дерзкие рейды моряков в тыл врага, наводила на него ужас.
К исходу 16 февраля 1942 года наша бригада соединилась с частями 45-й стрелковой бригады 3-й Ударной армии. Таким образом, основную задачу, поставленную перед 75-й омсбр, мы выполнили, создав внешний западный фронт для окружения демянской группировки войск противника.
В этот же день 2-й гвардейский стрелковый корпус вместе с нашей 75-й омсбр был выведен из состава Северо-Западного фронта и введен в Холмскую группировку войск 3-й Ударной армии Калининского фронта.
Мы вливались в новое могучее подразделение с опытом и трофеями, достойными гордости. Позади – 150 км, пройденных вдоль рек Редья и Ловать по глубоким тылам 16-й вражеской армии. Около 70 сел и деревень, освобожденных от фашистов. Внушительный арсенал захваченного оружия: 9 танков, 30 орудий, 20 минометов, 350 автомашин и другой боевой техники. 2000 уничтоженных гитлеровцев.
В ночь с 17 на 18 февраля бригадные разведчики взяли трех «языков». От них-то и узнали: из глубокого тыла Германии в район действия 75-йомсбр переброшена авиадесантная бригада для того, чтобы приостановить продвижение наших войск.
24 февраля 1942 года по приказу командира 2-й гск Героя Советского Союза генерал-майора А.И. Лизюкова наша бригада перешла к активной обороне, прочно удерживая район Пронино-Иванково. По-другому – подступы к г. Холму.
Холм в оперативно-стратегических планах немецкого командования сухопутными силами имел исключительно важное значение, поскольку располагался на стыке двух групп немецких армий «Север» и «Центр». Как свидетельствуют записи в военном дневнике начальника генерального штаба сухопутных сил Германии генерал-полковника Ф. Гальдера, Гитлер лично занимался усилением своих войск в Холме. Лично обращался к окруженному здесь немецкому гарнизону. И, видимо, не без его участия была учреждена немцами специальная медаль «За оборону Холма».
С 25 февраля началась ожесточенная бомбардировка позиций бригады, особенно в Пронинском лесу. Фашистские самолеты с рассвета до сумерек группами по 10-30 бомбардировщиков беспрерывно сбрасывали свой смертоносный груз на позиции моряков. Стояли сильные морозы. Грунт промерз. Необходимого инструмента для сооружения укрытий не было. Вместо них приходилось использовать воронки, образовавшиеся после разрыва бомб. Плохо обстояло дело и с подвозом продовольствия и боеприпасов. В отдельные дни из-за сильных заносов, обстрела и бомбежки они вообще не подвозились. От голода спасали убитые кони, мясом которых в такие дни питались обороняющиеся.
2 марта 1942 года ставка Гитлера приняла решение: 5 марта деблокировать группировку немцев в Холме. Моряки стояли насмерть, отбивая одно за другим наступление гитлеровцев. В критическое время их поддерживали два дивизиона «катюш».
В разгар ожесточенных боев, 17 марта 1942 года народный комиссар обороны СССР И.В. Сталин подписал приказ № 78, в котором отмечалось: «В многочисленных боях за нашу Советскую Родину против захватчиков 75-я бригада показала образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности… Ведя непрерывные бои с немецкими захватчиками, указанные дивизии и бригады нанесли огромные потери фашистским войскам и своими сокрушительными ударами уничтожили живую силу и технику противника, беспощадно громили немецких захватчиков». В приказной части записано: «За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава преобразовать… 75-ю стрелковую бригаду в 3-ю гвардейскую стрелковую (командир – капитан I ранга Сухиашвили К.Д.)… Преобразованным дивизиям и бригадам вручить гвардейские знамена…».
Трагизм и величие подвига моряков нашей бригады в смертельной схватке с фашистами за город Холм лучше всего описал командир 2-го гвардейского стрелкового корпуса (2-я гск), Герой Советского Союза генерал-майор Лизюков в статье «Сталинская гвардия», опубликованной на страницах газеты «Красная звезда» 1 мая 1942 года. Вот выдержка из нее: «Не имея возможности остановить гвардейцев наземными средствами, немцы организовали комбинированный контрудар… Гвардейцы Сухиашвили подверглись удару одновременно действующих 150 самолетов. Бомбардировщики и штурмовики фашистов в течение 3-х часов непрерывно обрабатывали гвардейцев с воздуха. В то же время противник открыл сильный артиллерийский и минометный огонь. Немцы применили здесь новое оружие – 230-мм минометы. Действие такой мины равно крупной бомбе, сброшенной с самолета. Огонь противника был настолько плотным, что, казалось, в воздух взлетела вся земля. Белоснежное поле у деревни Пронино превратилось в черную, зияющую ранами воронок, поляну… Пронинский лес был совершенно сметен, от него остались только отдельные пни. Немцы были настолько уверены в эффекте своей подготовки, что после нее по сигналу белых ракет пошли вперед густыми колоннами. Они были убеждены: путь открыт. Медленно ползли танки врага. Офицеры открыли люки и самодовольно наблюдали страшную картину результатов применения своих бомб и снарядов. Казалось, вокруг все было мертво. Но когда немцы без выстрела прошли место, где находился Пронинский лес, черное мертвое поле вдруг ожило. Из воронок от бомб и снарядов, как по команде, внезапно выросли силуэты гвардейцев. Со всех сторон вспыхнули огоньки пулеметов и противотанковых ружей. Перед немцами появилась непроходимая огненная завеса. Из-за отдельных пней полетели ручные гранаты. Ошеломленные фрицы остановились. Минута замешательства окончательно погубила врага. Гвардейцы поднялись в контратаку во весь рост. Изумленным немцам, думавшим, что они шли как бы по кладбищу, казалось, глядя на гвардейцев, будто это мертвецы восстали из могил. То было поистине потрясающее зрелище. Сотня уцелевших гвардейцев отбросила авиадесантный полк немцев. Оставив на поле боя сотни убитых солдат и офицеров, немцы бежали. Грозная контратака моряков настолько подействовала на врага, что в течение семи дней немцы сидели в своих окопах, как тараканы в щели».
Таких боевых сражений можно привести много. Одно из них – очередное крупное наступление противника на наши позиции 5-6 мая 1942 года. Цель все та же: любой ценой прорваться к городу Холм и разорвать кольцо окружения немцев.
Наши ряды в ходе битв настолько поредели, что гитлеровцам удалось потеснить части нашей бригады до деревни Куземкино. Тогда командование 2-й гск выделило в помощь 75-й омсбр 150 человек резерва – школу младших лейтенантов.
За время тяжелейших кровопролитных боев наша бригада моряков вывела из строя 7000 немецких захватчиков, но и сама потеряла убитыми и ранеными 3166 человек.
21 мая 42-го на базе нашей 3-й гвардейской стрелковой бригады была сформирована 27-я гвардейская стрелковая дивизия. Сохраняя традиции моряков 75-й бригады, бойцы и командиры дивизии так же нашили на рукава якоря.
В последующих боях личный состав 27-й гсд умножил славные традиции моряков-гвардейцев. Части дивизии принимали участие в Сталинградской битве, освобождали города Украины (Барвенково и Запорожье), форсировали реку Северный Донец, а в 1944 году – Южный Буг. За этот подвиг 27-я гсд награждена орденами Красного Знамени с присвоением имени «Новобугская». Заслуженную награду – орден Богдана Хмельницкого – получила она и за успешное форсирование Днепра.
В июле 44-го 27-я гсд в составе 8-й гвардейской армии передислоцирована в район города Ковеля (нынешний Каунас) на I Белорусский фронт. Ее вклад в знаменитую наступательную операцию «Багратион» тоже известен, как и в освобождение польских городов Лодзь, Кушно, Гнездо, так и в прорыве окраин Берлина, закончившемся штурмом рейхстага.
Более десяти тысяч воинов Новобугской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии, в том числе многие моряки, были награждены за ратные подвиги орденами и медалями. Командир дивизии генерал-майор В.С. Глебов, комиссар дивизии полковник Н.С. Никольский (бывший начальник политотдела 75-й омсбр) и еще 16 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Бывшие матросы и старшины 75-й омсбр А.З. Сафонов, А.А. Борцов, Д.И. Назаренко и И.А. Маркин стали кавалерами орденов Славы трех степеней.
Подготовила Любовь ЧЕКАЛОВА