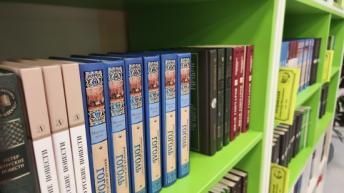Выставка
За окном то ли осень, то ли зима, а в Тюменском драматическом театре цветут азалии и флоксы, лучатся охрой подсолнухи, кивают махровыми головками пионы, склоняются к траве задумчивые ветлы... В фойе малого зала открылась камерная и очень лиричная выставка пастелей Евдокии Русаковой "Природы вечная красота". Привезли их из Ялуторовского музейного комплекса, а туда в свое время переслала из Москвы сама художница. Потому что родилась в наших краях и, когда много лет спустя приехала в гости, обнаружила, что в городе детства ей рады, а отца ее помнят и чтут.
Вместе с картинами ялуторовская делегация во главе с директором музейного комплекса Павлом Белоглазовым взяла с собой в Тюмень историю о "красном докторе" Иване Русакове, сосланном в Сибирь за участие в революции 1905 года. Его молодая жена Александра ждала ребенка, поэтому первоначальное место ссылки – Салехард – Русакову заменили на более теплый Ялуторовск. Там в 1906 году у пары родился сын Сергей. Через год появилась на свет дочка Евдокия. Ялуторовск был городом маленьким, а приписанный к нему уезд – огромным, врачей не хватало, и тобольский губернатор разрешил ссыльному доктору открыть практику, чтобы зарабатывать на жизнь себе и семье. Русаков был выходцем из крестьян, рассказывает заведующая Ялуторовским краеведческим музеем Татьяна Бурлакова, и на денежную помощь из дома ему рассчитывать не приходилось. Плата за прием составляла 25 копеек. Много это или мало? Бедняков Русаков лечил бесплатно, успешно боролся против эпидемии скарлатины, помогал товарищам-ссыльным.
"Первое время ялуторовчане его не принимали. Говорили: "Что это за доктор, ходит в красной рубахе! А жена? Какая это жена! На девчонку больше похожа". Возможно, красной рубахе Русаков и обязан своим прозвищем. Или его придумали позже для красного, опять же, словца? Как бы там ни было, но когда через три года супруги уезжали из Ялуторовска, проводить их пришли многие.
На прощание доктору вручили благодарственное письмо и подарок – серебряный поднос со стаканчиками. Письмо и сейчас хранится в фондах музея. А поднос со стаканчиками в трудные послереволюционные годы пришлось продать. В 1918-м заболела и умерла Александра. К тому времени в семье было уже трое детей. Сам Русаков, глава московского комитета образования, депутат X съезда РКП(б), погиб в 1921 году во время событий, которые в советских учебниках истории звались Кронштадтским мятежом.
Сирот поселили в санаторном детском доме при станции юных любителей природы, созданной Русаковым в Сокольниках. Потом ребят забрала к себе тётка Мария Русакова. Всех вырастила, всем дала образование. Сергей стал инженером- автомобилестроителем, младшая дочь Катя – журналистом. А Евдокия окончила Московский художественно-технический институт, работала в Горьковском книжном издательстве, Московском художественном фонде, а в годы войны рисовала агитационные плакаты в редакции-мастерской "Окна ТАСС". Много писала с натуры – в подмосковных санаториях, в Крылатском, Измайлово, Коломенском. Работала маслом, но, как сама признавалась, ей больше нравилась пастель. "Пастель мягче и больше отвечает моему чувственному характеру", – говорила художница.
В 70-е годы Евдокия Ивановна решила наведаться в город, где родилась. Была это частная поездка или с самого начала – официальный визит? Известно, что Русаковой организовали встречу с ялуторовчанами во дворце культуры, где она рассказывала о своих родителях, особенно об отце, именем которого названа одна из улиц города. Художница побывала в музее и обещала прислать в подарок свои картины. В самом деле, однажды с проходящего поезда выгрузили пакет, в котором оказалось около 20 произведений. Позже коллекция пополнилась еще несколькими работами. Сейчас в фондах музея хранится 24 картины, в том числе портрет Ивана Русакова. В Тюмень его не привезли, как и другую живопись. Для нас – глоток лета и ранней, рябиновой осени, поэтичная рукотворность пастели, очень личный разговор с деревьями, цветами и плодами.
В тот свой единственный приезд в Ялуторовск Евдокия Ивановна много говорила об отце и мало о себе. Позже одна из сотрудниц музея встречалась с ней в Москве. И все... Даже датировать картины невозможно. Лишь о нескольких известно, что написаны они в 1979-м, 1980-м и 1981 годах. На остальных этикетках стоит расплывчатое: "60-80-е годы". Евдокия Русакова умерла в 1997-м. Через год музей смог заказать рамы и впервые продемонстрировал ее работы ялуторовской публике. Вторая выставка состоялась нынешней весной в рамках традиционного творческого фестиваля им. Саввы Мамонтова. Недавно работникам музея удалось установить контакты с потомками Евдокии Ивановны – возможно, они помогут восполнить нехватку информации. Впереди большой юбилей – 110-летие со дня рождения художницы. Чем не повод для полномасштабной выставки и серьезного разговора о творческой судьбе талантливой дочери "красного доктора"?!
Кира КАЛИНИНА