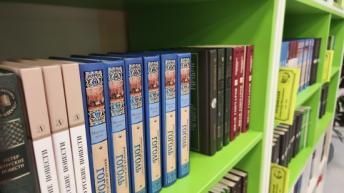Истории строки
В конце XIX столетия жил в Тюмени Флориан Ляхмайер, был он студентом Варшавского Императорского университета. В удаленном от Родины за тысячи верст городке встречались соотечественники: это были ссыльные поляки и те, кто по своей воле оказался в Сибири.
Сказочно богатые паны Поклевские-Козелл имели несколько заводов, которые давали 1\5 часть винопродукции всей России. Но Флориана больше привлекла личность Константина Высоцкого, первого фотографа Тюмени.
К тому времени Высоцкий ослабел духом, был старым, но о нем говорили как о тюменском «светоче» и «ходячей гуманности». При встрече, а жили господа неподалеку друг от друга, Ляхмайер с почтением отдавал поклон мэтру.
– Dzien\ dobry! – приветствовали друг друга коллеги по-польски. Им было, о чем поговорить.
Первый тюменский коллаж
Ляхмайер тоже имел собственную фотографию, однако в конце 1880 – начале 1890 годов его заведение перешло к омскому мещанину Исаю Иудовичу Кадышу. Возможно, студент уехал в царство Польское, в красивый древний город на Висле – Варшаву. Кадыш продолжил фотографическую историю Тюмени, причем о родине предшественника не забыл – его паспарту изготовлялись в самой Варшаве.
23 мая 1890 года Исай получил разрешение открыть в Тюмени собственную фотографию. Зарекомендовал себя среди мастеров светописи очень хорошо. В 1898 году по заказу Жабынского механического (судостроительного) завода товарищества «Курбатов и Игнатов» он подготовил фотоальбом, посвященный строительству железной дороги Екатеринбург–Тюмень. Мастер запечатлел всю администрацию и служащих завода, пристани пароходства. Каждый сотрудник снят отдельно и размещен на общем листе на фоне промышленных пейзажей, чертежей, пароходов, пристаней, различных кораблей, барж и т. д.
Для исследователей истории, как вы сами понимаете, этот альбом – вещь интересная и полезная. Только современных дизайнеров озадачивает то, как автор обошелся со своими творениями. На фотографии положил различные молотки, топоры, ножницы и другие орудия труда. Великолепные снимки стали своеобразным фоном. Получился фотоколлаж. В историю Тюмени Кадыш вошел как первый фотограф, обратившийся к этой технике.
И альбом его нестандартного размера – креатив. Кроме того, Исай удачно работал в жанре портрета.
8 ноября 1897 года в его семье произошло радостное событие: родился сын Моисей. Что случилось еще знаменательного? – кладовые тюменской истории молчат.
Фотосалон упомянутых господ Ляхмайера и Кадыша находился в деревянном одноэтажном доме Розова на углу Царской–Войновской. Новый хозяин Оверштейн их особняк снес, поставил нарядный, в белых «кружевах», каменный дом, он и сейчас прекрасно смотрится на углу Кирова–Республики.
Громадный выбор платьев
Постройка незаурядного дома – уже достойное дело для города. Только вряд ли купец II гильдии Шлема Менделевич думал, что бы эдакое выдающееся предпринять, да как бы отличиться благотворительностью или другим похвальным поступком, чтобы быть после увековеченным. Он – торговец. В голове вечная формула Карла Маркса: деньги–товар–деньги. Хотя Оверштейн не слыхивал о такой премудрости, имел низшее образование, но природная способность, я бы еще добавила – национальная черта, бывают важнее любой учености в коммерческом занятии.
На верхнем этаже дома Оверштейна размещалось «Тюменское отделение Русского для внешней торговли банка». В помещении строители сделали «для сохранения ценностей» особую «цементную кладовую». Дом телефонизировали, на столе управляющего отделением банка Александра Михайловича Трескина стоял аппарат за номером 169.
На нижнем этаже особняка жили сами хозяева, там же находился их магазин, в котором продавались парижские платья и костюмы. Торговля шла с 8 утра и до 7 часов вечера. Воскресенье – выходной. Коммерсант Шлема Менделевич завлекал тюменцев рекламой: «Всегда, ко всем сезонам, громадный выбор мужского, дамского и детского готового платья, а также меховые и суконные товары русских и заграничных фирм. Меха, сукна, драп и трико модных элегантных рисунков для приема заказов под опытным наблюдением известного закройщика Н. М. Баранова. Исполнение скорое и добросовестное. С почтением, Ш. М. Оверштейн. Ул. Царская, соб. дом.».
Кроме коммерции, он активно участвовал в делах религиозной общины. В 1900 году вместе с купцом Иосифом Брандтом обратился в городскую Управу с ходатайством о постройке в Ляминском логу «одноэтажной деревянной бани с теплым колодцем для религиозных омовений», то есть миквэ (ритуальная купальня для еврейских женщин). Управа не стала препятствовать.
Миквэ посещала жена Шлема Хавва Давыдовна. В усадьбе Оверштейнов проживал и практиковал врач Лейзор Бердичевский. Иметь знакомого доктора очень даже хорошо, мудро. Тем более что семья была большая: захворает ребенок – лекарь под боком.
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», – писал русский классик Лев Толстой. Будучи в солидном возрасте, 60 лет, Шлема Менделевич оставил Хавву Давыдовну и женился на 30-летней Надежде Павловне, русской. Она взяла фамилию мужа. Оверштейн был к тому моменту уже бывшим коммерсантом, революция отняла нажитое. Хавва Давыдовна в 1918 году пыталась снять с себя взыскания и другие налоги, страдала, что новой властью отобран у них дом. Но как сказал Маяковский: «Жалеть о прошлом – дело рачье».
Кончились мытарства г-жи Оверштнейн бегством с Колчаком. Ее бывший муж покинул земной путь в 1927 году, детей от второго брака не нажил.
Телефонная станция
Каменный добротный дом Оверштейнов вызывал аппетиты у новой власти. В сентябре 1918 года Управа реквизировала нижний этаж здания для размещения воинской части. Комиссионная контора Сибири не освобождала помещение. Тогда Управа отдала распоряжение милиции, чтобы та «приняла меры». В 1919 году здание занял штаб 51-й дивизии, через год тут уже размещалась канцелярия 140-го госпиталя, в 1921 году поселился гублесотдел. А так как часть дома изначально предназначалась под банк, то финансовые учреждения не заставили себя долго ждать. В первые годы Советской власти в здании размещалось Тюменское отделение Государственного банка, затем – Тюменское отделение Уралсельхозбанка.
Историческая цепочка на том не кончается, у нее еще одно звено, и какое!
Гитара Афромеева
Раиса Оверштейн, родственница Шлемы Менделевича, вышла замуж за скрипача Николая Едигарева, приехавшего из Санкт-Петербурга.
– Он был учеником профессора Ауэра и самой яркой личностью в среде местных профессионалов, – отмечает Михаил Яблоков, кандидат исторических наук, старший преподаватель Тюменского колледжа искусств. – У Едигаревых родились две дочери, одна из которых – Нина Николаевна – вышла замуж за известного педагога струнных инструментов и организатора ансамблей народных инструментов Аркадия Маргина. Трое из пяти детей Маргиных стали профессиональными музыкантами, они сыграли значительную роль в формировании культуры Тюмени.
– А ведь был еще фотограф Василий Маргин, имел фотоателье «Общедоступная фотография», которая работала до революции и в 20-е годы, – замечаю.
– Родственники они! – читает мои мысли Михаил Сергеевич. – В семье музыкантов Маргиных хранилась двухгрифная 11-струнная гитара Афромеева, сделанная австрийским мастером.
Пути Господни неисповедимы. А. Афромеев, будучи редактором газеты «Ермак», ославился выпадом против тюменских евреев. Конкурент по газетному цеху г-н Крылов, шеф «Сибирской торговой газеты», в 1912 году поместил заметку «Юдофобство прогрессивного журналиста». «По предложению г-на Афромеева, с евреев надлежит брать вступительную плату (за приписки к мещанскому обществу) в 300-400 руб. вместо прежних 10-25. Юдофобство г-на Афромеева, ярко проявившееся в этом направлении в былые годы, не секрет для знающих его. Но, спросим мы, как можно примирить такие черносотенские тенденции с титулом прогрессивного журналиста, каковым он себя рекомендует в каждом номере своего издания». В 1914 году, когда Германия воевала с Россией, Афромеев осрамился еще одной выходкой. В кинотеатре «Гигант» закричал на заезжих артистов: «Если ты немецкая морда, то замолчи!».
По свидетельству современников, гитаристом Афромеев был великолепным. Его гитара оказалась в семье Маргиных, родственников Оверштейна, от них перешла в собрание краеведческого музея.
«Пой, звени, моя гитара!» – что еще расскажешь?..
НА СНИМКАХ: дом Оверштейна на ул. Кирова; семейство Маргиных.
Елена ДУБОВСКАЯ /фото автора/