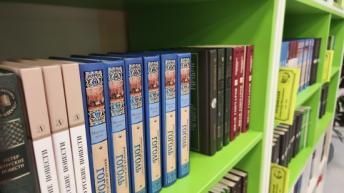Начинающий поэт Рубцов, будучи уже автором многих стихотворений, позднее вошедших в сокровищницу русской поэзии, был вынужден терпеть произвол издателей, редакторов и прочей начальственной братии. И делали они это не корысти ради и даже не со зла, а следуя неписаному закону, что молодёжь надо учить уму-разуму, иначе ничего из неё путного не выйдет.
В письме Николаю Сидоренко, руководителю поэтического семинара в Литературном институте, Николай Рубцов пишет по поводу своей первой официально издаваемой в Архангельске книги: «Стихи «Русский огонёк», «По холмам задремавшим» и ещё многие стихи, которые дали бы лицо книжке, мне предлагают обязательно убрать из рукописи. Даже стихотворение «В горнице моей светло» почему-то выбрасывают. Жаль. Но что делать? Останутся в книжке стихи мои самые давние, мной самим давно позабытые. Хорошо, что оставили стихотворение «Тихая моя родина».
А вот взгляд на описываемые поэтом события редактора трёхтомника Рубцова, выпущенного издательством «Терра», В. Зинченко. Из примечания к 1-му тому сочинений:
«Сам же он горячился в спорах с редакторами книжек, отстаивая одни стихотворения и с легкостью отказываясь от других, на его взгляд, легковесных. Все же следует отдать должное строгому редактору первых поэтических книжек Николая Рубцова, вышедших в Архангельске, В. Лихановой – она услышала лейтмотивную мелодию в его поэзии и оберегала сборники от включения в них недостойных, по ее пониманию, стихотворений. В июне 1969 года при подготовке к изданию сборника «Душа хранит» она посылает в Вологду большое письмо, предлагая поэту убрать из рукописи многие стихотворения «как малозначительные, недостаточно продуманные Вами. Думается, что стихи-шутки не сродни Вашему поэтическому дару… Оставшиеся стихи, а их немало, достаточно полно представляют ваше творчество со всем присущим ему своеобразием и не нарушают целостности сборника, в котором, на наш взгляд, отчетливо наметились две основные линии. Первую можно выразить вашими словами: «Люблю твою, Россия, старину». И вторая – это любовь к Северу, к родной природе, которая наполняет душу поэта, питает его вдохновение».
Вот так жёстко работали с будущим классиком в Северо-Западном издательстве. Выделили в его творчестве «лейтмотивную мелодию» и всё остальное убрали, как недостойное.
Конечно, редакторская работа важна. Особенно это видно в наши дни, когда редактирование поэтических сборников просто исчезло. Но надо иметь весьма специфические взгляды на поэзию, чтобы считать недостойными такие стихи, как «Я буду скакать по холмам задремавшим Отчизны», «В горнице моей светло» и многие другие, позднее ставшие классикой.
В советские годы редакторский произвол имел формы пролетарской диктатуры. В книгах, выходящих из издательств, узнать авторов порой было очень сложно. Редактора отбирали стихи под себя, под свои представления о поэзии, пытались сформировать сборники под придуманные ими же «основные линии». Всё прочее, нарушающее стройную концепцию, отметалось.
Неслучайно поэтические книги, вышедшие из одного издательства, были неуловимо чем-то похожи друг на друга. Неслучайно каждый журнал имел своё поэтическое лицо, хотя и печатал совершенно разных поэтов.
В связи с этим хочется рассказать один анекдот, случившийся в нашей не особо богатой на анекдоты местности. В бытность моей трудовой деятельности в областном литературном журнале, почему-то упорно именовавшемся альманахом, довелось мне присутствовать при рождении поэтического гения.
Первой о нём возопила уважаемая областная газета, опубликовав подборку стихов уникума с душещипательной статьёй о нём весьма уважаемой всеми журналистки.
Случай был действительно уникальный: молодой поэт – пациент Винзилинской психбольницы, почти всю свою жизнь проведший в спецучреждениях. И что самое главное – стихи его были великолепны! Они были опубликованы в литературном сборнике инвалидов. Потом местное телевидение выпустило о нём чуть ли не фильм.
Напечатали подборку и мы.
Ощущение чуда, мистики не покидало нас: конечно, всегда смутно верилось, что поэзия есть сфера необъяснимая, таинственная, но то, что творилось на наших глазах – рождение её в мозгу психически больного человека – превосходило все ожидания.
И всё бы ничего, да через какое-то время приходит в редакцию с «Юностью» времён перестройки поэт Виталий Огородников и показывает мне стихотворение новоявленного гения, напечатанное под другой фамилией.
Я бросился перерывать архив «Юности» той поры. Нашел ещё два стихотворения разных авторов, одним из которых была женщина. Всё стало более-менее понятно.
Но почему так органично смотрелась подборка, составленная из стихов разных поэтов, почему даже мысли ни у кого не зародилось о том, что принадлежат они не одному перу?
Потому что в журнал их отбирал один редактор. В «Юности» это особенно чувствовалось – близость поэтических текстов, нивелировка их под редакторский стандарт.
Надо сказать, что молодой человек никогда не заявлял, что эти стихи он написал сам. По его словам, они приходили к нему по ночам. Ему дали тетрадку и карандаш. Он стал их записывать. Тетрадку эту с корявыми паучьими буквами, от которых бросало в дрожь, я видел лично.
Вопрос в другом: как ему удалось, даже если он читал эти журналы, отобрать из множества подборок действительно лучшие стихи? Как удалось так органично подобрать их, что создаётся впечатление, будто написаны они одним человеком?
Такова сила редакторской мысли, способная в поэтическом пространстве производить необратимые изменения. В случае с Николаем Рубцовым редакторы тоже действовали исключительно из благих порывов, не понимая одного: не надо стараться улучшить поэта, надо просто принимать в нём лучшее.
Формат сборника «Лирика» был небольшой – 1 п. л., или 700 строк. Не знаю, из каких соображений, видимо, втайне надеясь, что его всё-таки оценят и увеличат объём книги, Николай Рубцов дал стихов гораздо больше: в сборник вошло 25 стихотворений, и в письме в Архангельское издательство он говорит о 75 убранных из рукописи стихотворениях. Далее он пишет: «Все 75 стихотворений, исключённых Вами из рукописи «Лирика», сейчас одобрены издательством «Советский писатель» и выйдут скоро книжкой «Звезда полей»… (Надо сказать, что не все исключённые стихи вошли в новую книгу – Авт.). Так что, повторяю, выбросили Вы их абсолютно произвольно. Это говорит лучше всего о Вашем отношении к автору».
Это говорит не только об отношении к автору, но и к себе. Почему издательство, имея возможность открыть стране новое имя, не воспользовалось ею? Не хватило понимания масштаба таланта Николая Рубцова? Почему редактор Левушкин сделал упор на более ранние стихи поэта?
И тут напрашивается самый простой ответ: эти тексты более традиционны для советской поэзии. Они и тематически, и мировоззренчески не выпадают из всей массы издаваемого в те годы. В них настоящий Рубцов слышится едва-едва. Он ещё проклёвывается сквозь скорлупу советской традиции.
Их издавать нестрашно. Страшно увидеть новое, совершенно не стыкующееся с реалиями и идеологемами современности. Не отрицающее эти реалии и идеологемы, но находящееся вне их досягаемости. Пространство вековечной Руси, открытое поэтом в его стихах, забытое, кажется, всеми навсегда, заговорило в полный голос. Заговорило, заставляя учащённо биться сердце, зовя окунуться в далёкое прошлое, как в котёл с живой водой, чтоб возродиться и прозреть.
Стихи эти, где нет места коммунистическим символам, наполненные глубокими простыми человеческими чувствами, усиленные невероятным рубцовским талантом, были опасны вдвойне, потому что призывали любить не то и не так. Они показывали, какой может быть душа, обретшая свободу, раскрепостившаяся, сбросившая с себя условности и страхи.
А вот отрывок ещё одного письма Рубцова в Архангельское издательство, косвенно подтверждающий сказанное выше (речь идёт о книге «Лирика): «Еще кое о чем. О стихотворении «В святой обители природы». Вы сказали, что оно написано ниже возможностей автора. И только. Я не настаиваю и не прошу, чтоб оно осталось в рукописи. Хочу только сказать, что как раз об этом стихотворении я особенно иного мнения, но железная убедительность Вашего критического довода оставляет меня бессловесным. Но, в общем, Бог с ним, пусть это стихотворение не будет в рукописи. Я примерно предполагаю, что Вы имели в виду, и говорить мне о нем, значит, говорить неконкретно, а вообще рассказывать о своих взглядах на содержание и форму стихов. А предполагаю я то, что Вы считаете стихи такого рода, как это, неоригинальными и пустыми.
Стихотворение «Уединившись за оконцем» Вы назвали легковесным. По-моему, легковесными следует считать те стихи, которые лишены всякого настроения, а значит, и поэтического смысла, а не те стихи, в которых выражено легкое настроение или состояние духа и выражено легко. Иначе, стихотворение Есенина, например, «Вот уж вечер. Роса блестит на крапиве. Я стою у дороги, прислонившись к иве» – тоже стихотворение просто легковесное, а не удивительный шедевр чистоты души и духа.
Что касается стихотворения «Ось», то должен сказать, что я совершенно против того, чтоб его поставить первым в книжке. Меня мало устраивает такой довод, что в нем особенно ярко выражена моя позиция. Я считаю, что моя позиция, т. е. мои привязанности, моя любовь, должны быть понятны по моим стихам, которые я пишу искренне, – и, значит, не нуждаюсь в декларации моей позиции. А стихотворение «Ось» как раз декларативное и вдобавок легковесное, т. е. оно лишено отчетливого настроения».
И ещё немного о книге «Лирика». 19 ноября 1965 года уже после выхода книги в письме Александру Яшину Рубцов пишет: «Недавно за эту книжку, за которую я должен был получить оставшиеся 40% гонорара, мне послали всего-навсего 29 рублей. При этом уведомили меня, что никакого недоразумения здесь нет, что произведен окончательный расчет. (И эту-то несчастную сумму они послали после долгой некрасивой волынки.) Они совершенно неожиданно для меня решили оплатить не все строчки, а только, видимо, рифмованные. Решили – сделали. Оплатили 470 рифмованных строк, но фактически в книжке 640 строк, т. е. за ними остался – я в этом убежден – долг. Это долг за 170 строк по 70 коп. Вот уж действительно свинью подложили! Я не злоупотребляю разбивкой строк, да дело еще и в том, что они сами кое-где ее убрали, а кое-где ввели – значит, в художественном отношении они нашли это целесообразным. Так чего ж они, балбесы, подсчитали только рифмы!
…Между прочим, у меня в книжке есть и белые стихи. По какому же принципу они оценили их?
…Просьба моя заключается в том, Александр Яковлевич, чтобы Вы посоветовали мне, что теперь сделать, или (если Вы найдете, что я прав), может быть, Вы сами напишете им об этом, и они образумятся. Что касается меня, то я им о своей претензии еще ничего не написал. Я бы плюнул на все это дело, но суть в том, что, уезжая в эту деревенскую глушь, я рассчитывал на эти средства и строил в связи с ними кое-какие планы. Теперь они рухнули. Я ведь не миллионер. Вот так: в книжке 640 строк, они же оплатили только 470 строк».
Издать книгу в советские годы было невероятной удачей, поэтому и смотрели редактора на авторов, особенно, начинающих, сверху вниз. Снисходительно, покровительственно. Так и было с Рубцовым, у которого в Архангельском издательстве выходил первый сборник.
И никто не думал, что в этом случае невероятная удача выпала издательству: к ним обратился поэт со стихами, которым будет суждено стать частью классического наследия русской литературы. Что им выпало счастье присутствовать при рождении гениальных поэтических шедевров и даже косвенно поучаствовать в этом процессе.
Как же воспользовалось Северо-Западное издательство открывшейся перед ним возможностью? Оно обсчитало будущего классика, заплатив по минимуму!
Виктор ЗАХАРЧЕНКО