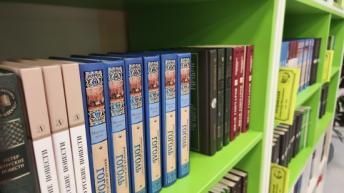Так называется необычная выставка в Тюменском музее изобразительных искусств. Главная героиня экспозиции – небольшая фаянсовая тарелка со скромной кобальтовой росписью. Но загадок в ней столько, что хватит и на весомый научный труд, и на остросюжетный роман, и на сериал о тайных обществах, заговорах, интригах, мистификациях, эзотерических практиках, опасных путешествиях и международном расследовании…
В Тюмень эту тарелку прислали в 1938 году из Эрмитажа вместе с другими экспонатами, предназначенными для пополнения коллекции нашего краеведческого музея. Таких предметов, изъятых из частных дворянских собраний, в ленинградском музейном фонде было много, их даже инвентарными номерами не помечали.
Тюменскому искусствоведу Людмиле Осинцевой удалось выяснить, что хранились эти вещи в Аничковом дворце. Но как туда попала наша тарелка, и кому она принадлежала до революции – увы, неизвестно. Эрмитаж и сам владеет парой подобных, но до их детального изучения у сотрудников пока не доходят руки…
С датировкой, на первый взгляд, все просто – 1688 год указан на самой тарелке. Однако почему единица так похожа на букву «J»? Оказывается, у мистиков былых веков цифра «1» соотносилась с древнееврейской литерой «Йод», первой буквой одного из имен бога, и вполне могла этой буквой подменяться, что сразу же придает надписи символическое значение… Даже несведущий человек, внимательно рассматривая тарелку, заподозрит в ней шифрограмму, насыщенную знаками и тайными смыслами. Некоторые могли быть типичны для своего времени, но нам кажутся китайской грамотой. А от нее и до китайского фарфора недалеко. Точнее, до голландского фаянса, созданного ему в подражание, но снискавшего собственную громкую славу.
При поступлении тарелка числилась немецкой, однако бело-синяя роспись по фаянсу наводила на мысль о голландской традиции, и Людмила Осинцева решила проверить свою гипотезу, обратившись с запросом в музеи Нидерландов. Первые ответы были не утешительны: это не Голландия, ищите в Моравии и южной Словении. История фаянса и фарфора в этом регионе началась с габанов – сектантов, бежавших из Германии, Швейцарии и Италии. Они селились «дворами» – замкнутыми общинами – и слыли превосходными ремесленниками, в особенности мастерами фаянса…  Но из Чехии и Словакии написали: тарелка не наша, обратитесь к голландцам. В конце концов тюменскому искусствоведу удалось выйти на связь с исследовательницей, которая отыскала точно такую же тарелку в ратуше голландского города Вианена.
Но из Чехии и Словакии написали: тарелка не наша, обратитесь к голландцам. В конце концов тюменскому искусствоведу удалось выйти на связь с исследовательницей, которая отыскала точно такую же тарелку в ратуше голландского города Вианена.
В центре тарелки жанровая сцена: плотницкая мастерская, в которой трудятся трое – первый обтесывает доску или бревно (ученик?), второй работает за верстаком (подмастерье?), третий (мастер?) держит в руках линейку, возможно, желая измерить новую деталь… Дверь из мастерской приоткрыта в темноту, ручка находится посередине дверного полотна, за спиной человека с линейкой – стена со множеством прямоугольников. Может быть, это готовые бруски или рубанки разных размеров? Или перед нами не стена вовсе, а башня с высокими окнами? Башня, конечно, не может помещаться внутри мастерской. Если только это не очередной знак…
«Сама мастерская и инструменты в изобразительном искусстве Голландии приобрели статус универсального символа, – отмечает Людмила Осинцева. – Ремесло плотника считалось занятием избранных и посвященных в тайные науки. Многие цари и верховные жрецы не чурались плотницкой работы…» Среди них и правители шумерского города Ур, и Петр I, получивший звание «Великий плотник». Гончары и художники города Делфта – центра голландского фаянсового производства – входили в Гильдию Святого Луки и регистрировались в специальной книге. Ее отсканированная копия размещена в Интернете. Розыск дополнительных сведений о мастерах привел к упоминаниям о габанах и масонах. Да и сам рисунок явно непрост: три ступени мастерства – три стадии духовного восхождения, дверь в иное пространство, ручка – философская «точка в центре круга», на стене инструмент в виде Т-образного креста… Кстати, рисунок одной из тарелок, хранящихся в Эрмитаже, отличается от нашего несколькими деталями и наличием четвертого персонажа – мужчины с курительной трубкой. На второй тарелке изображены двое с топорами на фоне мельницы. А ведь было время, когда мельников считали колдунами…
Вокруг основного рисунка две монограммы в венках-медальонах, на обороте надпись из четырех букв «AIVH», что, возможно, означало название мастерской «Греческое «А» (была такая в Делфте) и имя возглавлявшей ее дамы – Иоанна ван дер Хоуль. Такова версия голландцев. Американцы из музея Метрополитен, где есть тарелка с теми же буквами «IVH», считают, что речь идет об Иоганне ван Хорне, главе Ост-Индийской компании. Будто бы посуду, которая изготовлялась по его заказу, клеймили такой монограммой. И происходило это в… Японии, где голландцы основали свою мастерскую – поближе к родине фарфора и месторождениям подходящих для него глин.
 Любопытно, что ван Хорн бывал в России и водил знакомство с Петром I. Еще любопытнее, что художник, написавший его портрет, жил в городе Вианене и был замешан в заговоре против английского короля Якова II, вместо которого на престол посадили Вильгельма III Оранского А произошло это в 1688 году. «Таких совпадений не бывает!» – восклицает искусствовед. Фантазия рождает самые невероятные версии… Не была ли тарелка тайным знаком заговорщиков?
Любопытно, что ван Хорн бывал в России и водил знакомство с Петром I. Еще любопытнее, что художник, написавший его портрет, жил в городе Вианене и был замешан в заговоре против английского короля Якова II, вместо которого на престол посадили Вильгельма III Оранского А произошло это в 1688 году. «Таких совпадений не бывает!» – восклицает искусствовед. Фантазия рождает самые невероятные версии… Не была ли тарелка тайным знаком заговорщиков?
Остальные экспонаты выставки тоже богаты символами, прямо или косвенно связанными с тайнами голландской тарелки. Перед нами алхимик в мастерской, минералы, которые он мог исследовать, стол с атрибутами его ремесла и старинной масонской книгой, резная панель с изображением античных муз, по именам которых называли себя масонские ложи, инструменты плотника и аптечные весы, китайский фарфор и голландские изразцы, модель мельницы и знаки ремесленных цехов… Каждый предмет ждет, чтобы его разгадали, протянули от него ниточки к фактам, людям, понятиям, затерянным во времени и пространстве. Эта выставка – вызов воображению, азарту сыщика, который живет в каждом из нас, предложение поразмышлять об устройстве мира, в котором все взаимосвязано, и даже маленькая тарелка может стать ключом к большим открытиям.