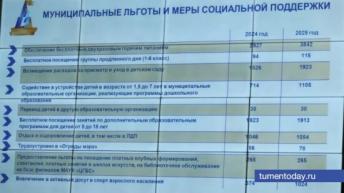В то время в нашем маленьком селе везде были развешены портреты Сталина. Помню один очень большой и красивый на стене сельского магазина. Я – маленький несмышленыш – говорил: «Вырасту большой – буду походить на Сталина». Родители осторожно посмеивались над моим лепетом.
Однажды вечером, когда мать и отец вернулись с работы, вместо обычного семейного чтения был оживленный разговор, из которого я понял только одно – умер Сталин.
На следующий день всем жителям было дано указание явиться в клуб – он находился в деревянном здании бывшей сельской церкви. Поскольку купол и колокольня были уничтожены, то все строение напоминало длинный сарай. Лишь огромная вековая лиственница украшала это место. Потом и её спилили по указанию очередного председателя сельсовета.
Яркое мартовское солнце. Очень холодно и ветрено, метет снег. Мы с дедом идем по узенькой тропинке, пробитой в сугробах. На нас полушубки и валенки. Я закрываю лицо рукавичкой – мороз щиплет щеки и нос. Мы идем в клуб к указанному времени. В здании холодно, почти как на улице. На корявых березовых скамейках – много людей. Впереди на возвышении сцены стол и табурет. На столе – маленький радиоприемник и большая черная тарелка громкоговорителя. Под столом – огромная куча электрических батарей, провода (в нашем селе тогда не было электричества). Радиоприемников – всего два: один – у председателя сельсовета, а второй – у старого чеха, которого неизвестно как занесло в эту сибирскую глушь еще с Первой мировой войны. Чех этот был человек независимый, в колхозе не работал, жил своим хозяйством. В качестве транспортного средства использовал корову – возил на ней сено. Он даже ругался по- особенному, дипломатично: «…в вашего бога мать…».
Председатель сельсовета – коротенький человечек в белом заплатанном полушубке – сидел на табурете спиной к собравшимся и остервенело крутил ручки радиоприемника. Крутил долго, у меня уже замерзли ноги в валенках, и вот, сквозь шорохи и трески, мы услышали Москву, церемонию прощания с отцом всех времен и народов. Люди в зале подавленно молчали. Мужики молча курили самокрутки. Женщины заплакали, некоторые даже навзрыд. Дед мой сидел, подняв голову и прикрыв глаза. Потом, очевидно, кто-то настучал, его вызывали в сельский совет и спрашивали, почему не плакал. «Я вообще не плачу. Да он что мне, родная тетя, что ли?» – ответил он, выругавшись. Деда не посадили.
Наверное, что-то стало быстро меняться во власти. Но я помню одну старую, неграмотную бабку, отсидевшую ровно десять лет за то, что, заглядевшись на тот самый портрет, споткнулась и сказала: «На тебя, черт усатый, загляделась и чуть не упала». Хорошие уши были у портрета.
Еще ярко помню один эпизод из моего раннего детства. Напротив нашего дома заглохла полуторка. В кузове этого маленького грузовичка были два милиционера в чернильно-синих шинелях, а между ними в черном, легоньком пальто и шляпе, сгорбившись, сидел интеллигентный человек – старый школьный учитель, его арестовали, очевидно, тоже по доносу. Из ветхой избушки, стоящей у дороги, вышла женщина. Она вынесла кринку молока и попыталась протянуть ее арестованному. Из кабины машины выскочил человек в кожаной куртке и, сильно ругаясь, отогнал эту женщину. Наконец шофер, лязгая рукояткой, завел мотор. Машина тронулась и, тарахтя, скрылась за поворотом. Женщина понуро пошла домой, а я еще долго стоял у окна и недетские мысли приходили мне в голову.
Теперь, когда мне, курящему трубку, говорят иногда, что я похож на Сталина, становится неловко. Неловко за тех, кто хотел бы вернуть былые страшные времена.